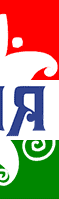Письма (Перевод с урду Л. Васильвой)
6.
Ахмаднагарская крепость 11 августа 1942 года
Досточтимый друг!
В шестой раз жизнь моя обогащается тюремным опытом. Впервые я попал в заключение в 1916 году и пробыл там четыре долгих года. В 1926, 1931, 1932 и 1940 годах история повторялась, и вот опять караван быстротечной жизни идет по очередному тюремному этапу.
И снова захотелось мне дорогой той пройти...
Я подсчитал общий срок моих пяти заключений: около семи лет восьми месяцев. Итак, из пятидесяти трех лет прожитой жизни примерно седьмую часть ее, иными словами, каждый седьмой день я провел в тюрьме*.
* (Это письмо написано 11 августа 1942 года, после чего я еще два года одиннадцать месяцев коротал в стенах тюрьмы. Общий срок заключения складывался теперь не из семи лет восьми месяцев, а из десяти лет семи месяцев. Я не жалуюсь на эту прибавку. Обидно только, что нарушилось соотношение "семи дней". (Примеч. автора.))
В одной из заповедей Торы* предписывается соблюдение субботы. Христианство и ислам также учредили свой выходной день. Что ж, я не остался в стороне: мне на долю тоже выпал день отдыха, и я имел еженедельный праздник! Только все мои "праздники" проходили согласно наставлениям ширазского мудреца**:
* (Тора - в иудаизме первые пять книг Ветхого Завета, Пятикнижие.)
** (Ширазский мудрец - Муслим ад-Дин Саади (1203-1292), великий поэт и мыслитель, классик персидско-таджикской литературы, уроженец города Шираза.)
Я не даю тебе совет поститься целый год, Три месяца гуляй себе, а девять пост держи*.
* (Здесь и далее звездочкой отмечены стихи в переводе с персидского Н. Пригариной.)
Размышляю над соотношением дней "вольных" и "тюремных" в свете происходящих событий и удивляюсь. Не тому, что семь лет восемь месяцев моей жизни поглотила тюрьма, а тому, что лишь семь лет восемь месяцев!
Разве стонет птица в клетке оттого, что хочет в небо? Просто вспоминает птица, как свободною была*.
Время предложило мне, жителю этой страны, два пути, два способа существования: оставаться безразличным ко всему либо чутко реагировать на каждое событие. Оказалось, что в первом случае можно жить более или менее спокойно, приспосабливаясь к обстоятельствам. Второй же путь проходит непременно через тюремные застенки. Выбор был за нами. Первое принять мы не могли, и нам не оставалось ничего другого, как пойти вторым путем.
Для многоопытного ринда* и благочестие не в тягость, Ему кумир не разрешает перед другими бить поклоны*.
* (Ринд - пьяница, гуляка, поэтический символ вольнодумца, пренебрегающего канонами религии.)
Велик счет проступков, за которые виновные понесли наказание. Но сколько же в мире грехов, совершить которые не представилось возможности?!
Ты наказуешь нас за прегрешенья, боже, А кто воздаст за несвершенный грех?*
Во время ареста в 1916 году мне впервые представилась возможность заняться самоанализом. Было мне тогда 27 лет. Газета "Ал-Хилал" выходила в те дни под названием "Ал-Балаг", уже был основан "Дарул-Иршад". Житейские заботы обступали меня тесным кольцом. Надо мной постоянно висели самые разные дела, давило бремя обязательств по отношению к близким, друзьям, знакомым. И вдруг в один прекрасный день мне пришлось сложить с себя весь этот груз, сменить привычную суету на одиночество тюремной камеры, на полную изоляцию от мира. Казалось бы, такой крутой поворот событий должен был резко отразиться на моем состоянии, но поначалу такого не произошло. Лишь возникло ощущение, будто меня переселили из обжитого дома в безлюдное место*.
* (7 апреля 1916 года бенгальское правительство на основании Указа о безопасности выслало меня за пределы Бенгалии. Я уехал в Ранчи и поселился недалеко от города в местечке Мурабадж. Но вскоре я был арестован центральными властями и заключен в местную тюрьму, где отбывал наказание до 1930 года.)
В руинах хижина безумца - невелика беда, За пядь земли простор пустыни - невелика цена*.
Однако через какое-то время я начал понимать, что все не так просто, как казалось прежде, и что настоящие испытания еще впереди.
Когда с человеком неожиданно случается нечто подобное, он сразу не осознает всей сложности своего положения. Поначалу в нем рождается непобедимое чувство противодействия, которое не позволяет человеку смириться с обстоятельствами, побуждает его стойко сопротивляться. Такое состояние можно сравнить с сильным опьянением, когда не ощущаешь боль даже от самых жестоких ударов. Она заговорит, едва начнет проходить опьянение. Только тогда почувствуешь, что все твое тело разламывается от невыносимой боли.
Так было и со мной - в первые дни я находился в каком-то отрешении, опьяненный новыми ощущениями. Все связи и знакомства внезапно оборвались, начатые дела оказались заброшенными, все занятия разом прекратились, и ничего не осталось для ума и сердца. Калькутту я покинул совершенно спокойно и с легкой душой прибыл в это безлюдное место на окраине Ранчи. Но проходил день за днем, и моя беспечность начала сдавать. Теперь каждый шип суровой действительности болезненно впивался в сердце. Настало время бороться с незащищенностью души, выковывать для нее особый панцирь. Прошло уже двадцать шесть лет, а я до сих пор пользуюсь им. Панцирь этот настолько затвердел, что его можно лишь разбить, но не согнуть или придать ему иную форму.
Со студенческих лет моим любимым предметом оставалась философия, и с годами интерес к ней возрастал. На собственном опыте я убедился, что в горькие минуты жизни бесполезно ждать от нее практической помощи. Бесспорно, философия вырабатывает в человеке своего рода стоическую беспристрастность, благодаря которой он может возвыситься над обывательским уровнем мышления и несколько свысока следить за жизнеными перипетиями. Однако это не приносит облегчения в минуту личных переживаний. Философия в какой-то мере утешает нас, но это утешение облечено исключительно в форму отрицания, в нем нет и крупицы утверждающего начала. Философия поможет меньше сожалеть о "потере", но она не вселит надежду на "приобретение". Если отнять у человека надежду, ему останется довольствоваться философской сентенцией, подобной наставлению ученой птицы из "Калилы и Димны" ("Панчатантры"): "Не сожалей о потерянном". Но, потеряв, нужно ли что-то приобрести взамен? На этот счет философия мне ничего не говорит, ибо сказать ничего не может. Поэтому одной "философской" поддержки в преодолении жизненных невзгод недостаточно.
Наука знакомит нас с доказанными истинами, сообщает о неумолимом детерминизме, господствующем в мире материи. Так где искать нам поддержку в трудное для души время?
Кто найти лекарство может от сердечной этой раны, Где умелец тот, кто склеит расколовшийся сосуд?*
Приходится нам обращать свои взоры к религии. Это - стена, к которой человек может прислониться в минуты печали.
Как правило, религию человек наследует, как фамильное достояние. Я тоже получил ее в наследство. Но я не мог ограничиться унаследованными представлениями: они были не способны утолить мою жажду познания. Мне пришлось свернуть с проторенного пути и искать для себя новые дороги.
Мне не исполнилось и шестнадцати лет, когда жизнь заставила меня начать эти поиски: убеждения отцов и дедов больше меня не удовлетворяли. Прежде всего я обратил внимание на разногласия сторонников различных религиозных направлений внутри самого ислама. У меня вызвал недоумение антагонизм их суждений. Когда я попытался во всем этом разобраться, предо мной предстала картина спора, причем в мировом масштабе, о самой сути религии. Первое смущение уступило место сомнению, а сомнение привело к отрицанию. Потом настал черед противоборству религии с наукой, и на этом поле брани окончательно пала слепая вера в религиозные догмы. Один за другим в моем сознании вставали основные вопросы бытия, про которые мы обычно забываем в обыденной жизни. Что есть Истина? Где искать ее? Да и существует ли она? Если она есть и - только одна, потому что не может существовать более одной реальности, то почему разошлись пути к ней? И почему пути эти не только разные, но и ведущие в противоположные стороны? А как воспринимать факт, что над всеми этими противоположными, убегающими друг от друга дорогами, подняв факел своих бескомпромиссных и неумолимых доказательств, возвышается наука, и в безжалостном свете ее одна за другой рассеиваются, растворяются темные силы, которые человечество привыкло считать великими и священными?
Сомнение всегда ведет к отрицанию, но если остановиться на нем, то не останется ничего, кроме полного разочарования.
Кто-то в тоске оставался на каждой стоянке, Не было сил дальше идти, Тебя не найдя.
Мне тоже пришлось преодолевать трудные, долгие переходы, но ни одна стоянка моего пути не стала концом его, ибо разочарование не могло утолить мою жажду жизни и страсть к познанию. Пройдя все этапы сомнения и разочарования, я, наконец, добрался до поворота, откуда вдруг открылся мне совсем иной мир. Я увидел, что между этими встречными дорогами споров и противоречий, в самом центре темных глубин предрассудков и фантазий пролегает светлый и широкий путь, ведущий к конечной цели поисков Истины.
И если можно найти где-либо следы покоя и удовлетворения, то только на этом пути. Все, что растерял я в пути, обрел снова, в этих поисках. Причина моего недуга стала в конце концов лекарством от него же.
Лишь Лейла облегчит страдания по Лейле, Так пьяницы недуги излечит лишь вино.
Более того, убеждения, которые я потерял, оказались чужими, эпигонскими, а обретенные - своими, проверенными на собственном опыте.
От истинной живой воды был Хызра* путь далек. Иная жажда нас влечет, иные ждут пути*.
* (Хызр - легендарный старец, бывший проводником Александра Македонского к живой воде. Обрел бессмертие, испив живой воды. В поэзии - часто символ бесконечно долгой бесцветной жизни.)
До тех пор пока глаза застилает пелена рутины унаследованных представлений и чужих убеждений, рассмотреть этот новый путь невозможно. Но по мере того, как пелена спадает с глаз, путь этот виден все яснее и яснее. Мы начинаем понимать, что он всегда находился рядом и что он отнюдь не сокрыт от нас. Так нам казалось раньше из-за собственной нашей слепоты, потому-то и при свете дня блуждали мы в поисках пути.
Идущему путем любви не страшен зверь и лиходей, Лишь страх перед самим собой - угроза этих мест*.
И вот тогда я понял: то, что всегда считал религией, было вовсе не религией, а неким воплощением собственных заблуждений и ошибочных рассуждений.
Все, о чем я говорю,- не философия, скорее житейская мудрость. Я не буду касаться любви, потому что любовь выпадает на долю не каждому человеку, хотя в мире найдется немало завсегдатаев веселых кварталов. Пусть они сами спросят у своего сердца: доставила ли им когда-нибудь сладостную боль горечь выстраданного?
Тебя не смутили, советчик, ресниц ее острые жала? Достань же ланцет скорее и сердца кровь отворяй*.
Невозможно прожить жизнь просто так, без какой-либо цели, без желаний. То или иное увлечение, какая ни на есть зацепка, какие-то узы должны связывать человека с жизнью. Иными словами, должно быть что-то, ради чего стоит жить. Смысл и цель жизни разные люди понимают по- разному.
Воздержание аскета - пост и преклоненье, Прилежание Сармада* - кубок и питье хмельное*.
* (Сармад - Сармад Кашани (1590-1660), поэт-мистик иранского происхождения, в Индии стал религиозным подвижником - саньяси. Казнен при Аурангзебе.)
Некоторые довольствуются тем, что считают конечной целью жизни ее завершение. Но есть и такие, для кого мало просто прожить жизнь. Если большинство людей заполняет жизнь лишь каким-то занятием, то для этих натур занятость - отнюдь не все, что им нужно. Они жаждут еще и беспокойства.
Рана старая не ноет, и ожог не мучит свежий, Мучаюсь своим бездушьем. Боже, сердцем одари!*
Иными словами, одни живут, тихо-мирно занимаясь своими делами, другие же мечутся в постоянном волнении, вечно что-то ищут.
На лужайке, где ветер росой освежает ожоги тюльпана, Из тревог и волнений плетут утешения нить*.
Их жажду жизни не утолит холодная, не знакомая с волнением цель. Им нужна цель, освещенная огнем страсти поиска, которая рождает в душе трепет и смятение. Цель эта - словно недосягаемая красавица. В желании поймать полу ее одежды кто-то разрывает на себе ворот.
Она так далеко, а страсть с безумством схожа. Что руки опустил? Твой ворот - под рукой!
Для таких одержимых цель жизни милее самой жизни, за ней они гонятся без отдыха, без устали. Порой цель эта кажется совсем рядом, только протяни руку! Но по мере приближения к ней она удаляется, а потом вдруг и вовсе исчезает, не оставив даже следа.
Ее приверженность ко мне - волны и берега любовь, Едва прильнет в урочный час, как прочь бросается бежать*.
Если же посмотреть на предмет моих размышлений с психологической точки зрения, то откроется его новая сторона, но видима она лишь проницательному взору. Можно, например, говорить о схожести таких понятий, как покой и удовольствие. Но при этом должно быть полностью исключено однообразие. Оно наполняет нашу жизнь беспросветной скукой. Разнообразие явлений - пусть смена покоя на волнение, радости на печаль - все же разнообразие! Сама смена явлений - уже удовольствие. Арабы говорят: "Не привыкай к одной и той же компании". Вкус к жизни может ощутить лишь тот, кто, вкушая сладость бытия, запивает ее глотком горечи, и, таким образом, жизнь не приедается. Иначе какая в ней радость, если сменяют друг друга однообразные спокойные утра и вечера. Хорошо сказал об этом Дард*:
* (Дард - Мир Дард (1721 - 1785), один из крупнейших поэтов XVIII века, писал на языке урду.)
Чреда унылой жизни дней уж опостылела душе. Эй, Хызр, как долго будешь жить? Умри же, наконец!
Ценность находки известна лишь тому, кто умеет терять. Как может знать человек, который никогда ничего не терял, что значит обрести вновь?! Назири* сказал по этому поводу такой стих:
* (Назири (ум. в 1612 г.) - выдающийся персоязычный поэт Индии.)
В доме скорби, где по мертвым плачут, он обрел потерянного сына. Ты же, никогда не знав утраты, и от обретения избавлен.
Если довести эту мысль до конца, то вывод будет, очевидно, таков: сама наша жизнь не что иное, как бесконечная цепь треволнений, все в ней - движение, беспокойство. Состояние, которое мы называем покоем, при желании можно расценивать как смерть. Пока волна бежит - она существует, лишь успокоилась - ее уж нет. Один персидский поэт всю эту философию жизни выразил в таком двустишье:
Мы - волны моря, и для нас в спокойствии - небытие, Мы обретаем бытие волнением своим*.
И еще. В жизни одновременно может быть лишь одна любовь, одна страсть, одна привязанность. Дорожная пыль пути, ведущего к цели, очень ревнива. Она хочет, чтобы ей принадлежали все челобитные поклоны странника, и он не смеет преклонить колена перед каким-нибудь святилищем в стороне от своего пути. Эту мысль я позаимствовал у Галиба*:
* (Галиб (1797-1869) - великий индийский ноэт-классик, писавший на языках урду и фарси.)
Трудолюбие мое высоко оценила пыль ее порога, А перед святыней бил поклоны, хоть бы след какой на лбу остался!*
Я пустился в эти пространные рассуждения, чтобы открыть сегодня перед Вами одну из страниц книги своих разрозненных мыслей:
Я был в экстазе... Вам о том мое поведает лицо*.
Мейкада* бытия играет всеми цветами радуги. Каждый посетитель ее - пленник сетей воображения,- стремясь забыться, ставит перед собой чашу с хмельным напитком и пьет, допьяна.
* (Мейкада - кабачок, питейное заведение; распространенная поэтическая метафора радости жизни.)
У виночерпия для всех кувшин с вином один, Но всех по-своему разит в вине сокрытый хмель*.
Кто-то хочет собрать в саду жизни букет цветов, а кто-то желает набрать колючек. Ни тому, ни другому не понравится, если он останется с пустыми руками. Когда другие рвали цветы праздности и веселья, меня не было с ними. Люди оборвали все цветы, и на мою долю остались лишь колючие стебли мечтаний и неисполнимых желаний. Их я и собрал.
Как узнает о шипах любви сердце равнодушное твое, Если розу приколоть к груди твой наряд тебе не позволяет?*

© India-History.ru, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://india-history.ru/ "История и культура Индии"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://india-history.ru/ "История и культура Индии"