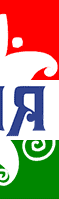Глава первая. Автобиографическая (Перевод с английского Р. Ульяновского)
Я не собираюсь писать настоящую автобиографию. Просто мне хотелось бы рассказать историю своих поисков истины. А поскольку такие искания составляют содержание всей моей жизни, то рассказ о них действительно будет чем-то вроде автобиографии. Но я не против того, чтобы на каждой странице автобиографии говорилось только о моих исканиях.
Мои искания в сфере политики известны теперь не только Индии, но и в какой-то степени всему "цивилизованному" миру. Для меня они не представляют большой ценности. Еще меньшую ценность имеет для меня звание "махатмы"*, которое я получил благодаря этим исканиям. Это звание часто меня сильно огорчало, и я не помню ни одного случая, когда бы оно принесло мне радость. Но я, разумеется, хотел бы рассказать об известных лишь мне одному духовных исканиях, в которых я черпал силы для своей деятельности в сфере политики. Если мои искания действительно носят духовный характер, тогда здесь нет места для самовосхваления, и мой рассказ может лишь увеличить мое смирение. Чем больше я размышляю и оглядываюсь на прошлое, тем яснее ощущаю ограниченность моих усилий.
* (Махатма (букв, "великая душа") - почетный титул Ганди. Впервые употребил его Рабиндранат Тагор вскоре после возвращения Ганди из Южной Африки.)
В течение тридцати лет я стремился только к одному - самопознанию. Я хочу видеть бога лицом к лицу, достигнуть состояния мокша*. Я дышу, двигаюсь, существую только для достижения этой цели. Все, что я говорю и пищу, вся моя политическая деятельность - все направлено к этой цели. Но, будучи убежден, что возможное для одного - возможно для всех, я не держу в тайне свои искания. Не думаю, что это снижает их духовную ценность. Есть вещи, которые известны только тебе и твоему творцу. Их, конечно, нельзя разглашать. Искания, о которых я хочу рассказать, другого рода. Они духовного или, скорее, морального плана, ибо сущностью религии является мораль.
* (Мокша - в индийской философии освобождение души от земного эмпирического бытия и слияние ее с абсолютным духом.)
Я смотрю на свои искания как ученый, который хотя и проводит их весьма точно, тщательно и обдуманно, однако никогда не претендует на окончательность своих выводов и дает большие возможности для размышлений. Я прошел через глубочайший самоанализ, тщательно проверял себя, исследовал и анализировал все психологические моменты. И все же я далек от мысли претендовать на окончательность или непогрешимость своих выводов. Единственное, на что я претендую, сводится к следующему: мне они представляются абсолютно правильными и для данного момента окончательными. Если бы это было не так, я не положил бы их в основу своей деятельности. Но на каждом шагу я либо принимал, либо отвергал их и поступал соответственно своему решению.
Моя жизнь - неделимое целое, и все, чем я занимался,- взаимосвязано и рождено моей ненасытной любовью к человечеству.
Ганди принадлежат к касте бания, и некогда, по-видимому, они были бакалейщиками. Но представители трех последних поколений, начиная с моего деда, занимали посты премьер-министров в нескольких княжествах Катхиавара*. Мой дед Оттамчанд Ганди, или, как его чаще называли, Ота Ганди, был, по всей вероятности, человеком принципиальным. Государственные интриги заставили его покинуть Порбандар**, где он был диваном***, и искать убежище в Джунагархе****. Там он обычно приветствовал наваба***** левой рукой. Кто-то, заметив такую явную неучтивость, спросил деда, чем она вызвана. "Правая рука моя принадлежит Порбандару",- ответил он.
* (Катхиавар - п-ов на западе Индии, в административном отношении входивший в состав Бомбейского президентства. На территории Катхиавара в конце XIX в. имелось 187 мелких княжеств.)
** (Порбандар - мелкое княжество на п-ове Катхиавар с одноименной столицей.)
*** (Диван - высший совет при дворах индийских феодалов, а также отдельный министр и вообще крупный чиновник княжества.)
**** (Джунагарх - город на п-ове Катхиавар.)
***** (Наваб - один из титулов высшей мусульманской феодальной аристократии.)
Отец был предан своему роду, правдив, мужествен и великодушен, но вспыльчив... Он отличался неподкупностью и за свою справедливость пользовался уважением и в семье, и среди чужих.
О матери я сохранил воспоминание как о святой женщине. Она была глубоко религиозна и не могла даже подумать о еде, не совершив молитвы... Она накладывала на себя строжайшие обеты и неукоснительно их выполняла. Помнится, однажды во время чандраяны* она заболела, но даже болезнь не помешала ей соблюдать пост.
* (Чандраяна (букв, "ход луны") - название обета у индусов, согласно которому количество ежедневно принимаемой нищи, начиная с полнолуния, последовательно уменьшается вплоть до новолуния.)
Я родился в Порбандаре, или Судамапури, 2 октября 1869 года. Там же провел детство. Помню, как впервые пошел в школу. В школе мне не без труда далась таблица умножения. Тот факт, что из всех воспоминаний в памяти сохранилось лишь воспоминание о том, как я вместе с другими детьми научился давать всевозможные клички, нашему учителю, говорит о том, что ум мой тогда был неразвит, а память слаба.
Я был очень робок и избегал общества детей. Единственными друзьями были у меня книги и уроки. Прибегать в школу точно к началу занятий и убегать домой тотчас по окончании их вошло у меня в привычку. Я в буквальном смысле слова убегал домой, так как терпеть не мог с кем-нибудь разговаривать. Я боялся, как бы надо мной не стали подтрунивать.
В первый же год моего пребывания в средней школе со мной произошел случай на экзамене, о котором стоит рассказать. Инспектор народного образования м-р Джайльс производил обследование нашей школы. Чтобы проверить наши познания в правописании, он заставил нас написать пять слов, в том числе слово "котел". Я написал это слово неправильно. Учитель, желая подсказать, толкнул меня ногой. Он хотел, чтобы я списал незнакомое слово у соседа. Но я считал, что учитель находится в классе для того, чтобы не давать нам списывать. Все ученики написали слова правильно. И только я оказался в глупом положении. Позже учитель пытался доказать мне, что я сделал глупость, но это ему не удалось. Я так и не смог постичь искусство "списывания".
Я считаю своей тяжкой обязанностью рассказать о том, как меня в тринадцать лет женили. Когда я смотрю на ребят этого возраста, находящихся на моем попечении, и вспоминаю свой брак, мне становится жаль себя и радостно от сознания того, что их не постигла та же участь. Я не нахожу никаких моральных доводов, которыми можно было бы оправдать столь нелепые ранние браки.
Браки у индусов - вещь сложная. Очень часто затраты на брачные обряды разоряют родителей жениха и невесты. Они теряют состояние и массу времени. Месяцы уходят на изготовление одежды и украшений, на добывание денег для обедов. Каждый старается перещеголять другого числом и разнообразием предлагаемых блюд. Женщины, обладающие красивыми голосами, и совсем безголосые, поют, не давая покоя соседям, до хрипоты, а иногда даже заболевают от этого. Соседи относятся ко всему этому шуму и гаму, ко всей грязи, остающейся после пиршества, совершенно спокойно, потому что знают - придет время, и они будут вести себя точно так же.
Как я уже говорил, приготовления к торжеству заняли несколько месяцев. Лишь по этим приготовлениям мы узнали о предстоящем событии. Мне кажется, что для меня оно было связано только с ожиданием новой одежды, барабанного боя, свадебной процессии, роскошных обедов и незнакомой девочки для игры. Плотские желания пришли потом.
Та первая ночь! Двое невинных детей, бездумно брошенных в океан жизни. Жена брата старательно осведомила меня, как я должен вести себя в первую ночь. Кто наставлял мою жену - не знаю. Я никогда не спрашивал ее об этом, да и теперь не намерен этого делать. Смею уверить читателя, что мы так нервничали, что не могли даже взглянуть друг на друга. Мы, разумеется, были слишком робки. Как заговорить с ней, что сказать? Наставления так далеко не заходили. Да они и не нужны в подобных случаях. Жизненные впечатления, полученные человеком с раннего детства, настолько сильны, что всякие поучения излишни. Постепенно мы стали привыкать друг к другу и свободно разговаривать. Хотя мы были одногодки, я поспешил присвоить себе авторитет мужа.
Должен сказать, что я был страстно влюблен в нее. Даже в школе я постоянно думал о ней. Мысль о предстоящей ночи и свидании не покидала меня. Разлука была невыносима. Своей болтовней я не давал ей спать до глубокой ночи. Если бы при такой всепожирающей страсти у меня не было сильно развито чувство долга, я, наверно, стал бы добычей болезни и ранней смерти или влачил бы жалкое существование. Но я должен был каждое утро выполнять свои обязанности, а обманывать я не мог. Это и спасло меня от многих напастей.
Насколько помню, сам я был не очень хорошего мнения о своих способностях. Я обычно удивлялся, когда получал награды или стипендии. При этом я был крайне самолюбив: малейшее замечание вызывало у меня слезы. Для меня было совершенно невыносимо получать выговоры, даже если я заслуживал их. Помню, как однажды меня подвергли телесному наказанию. На меня подействовала не столько физическая боль, сколько то, что наказание оскорбляло мое достоинство. Я горько плакал.
Из немногих друзей по средней школе особенно близки мне были двое. Дружба с одним из них оказалась недолговечной, но не по моей вине. Этот друг отошел от меня, потому что я сошелся с другим. Вторую дружбу я считаю трагедией своей жизни. Она продолжалась долго. Я завязал ее, поставив себе целью исправить друга.
...Впоследствии я понял, что просчитался. Исправляющий никогда не должен находиться в слишком близких отношениях с исправляемым.
Истинная дружба есть родство душ, редко встречающееся в этом мире. Дружба может быть длительной и ценной только между одинаковыми натурами. Друзья влияют один на другого. Следовательно, дружба вряд ли допускает исправление. Я полагаю, что вообще необходимо избегать слишком большой близости: человек гораздо быстрее воспринимает порок, чем добродетель. А тот, кто хочет быть в дружбе с богом, должен оставаться одиноким или сделать своими друзьями всех. Может быть, я ошибаюсь, но мои попытки завязать с кем-нибудь тесную дружбу оказались тщетными.
...Меня совершенно околдовала ловкость моего друга. Он мог бегать на большие расстояния и удивительно быстро. Он хорошо прыгал в высоту и в длину, мог вынести любое телесное наказание. Он часто хвастая передо мной своими успехами и ослеплял меня ими, потому что нас всегда ослепляют в других качества, которыми мы сами не обладаем. Все это вызывало во мне сильное желание подражать ему. Я плохо прыгал и бегал. Почему бы и мне не стать таким же сильным и ловким, как он?
Кроме того, я был трусом. Я боялся воров, привидений и змей. Я не решался выйти ночью из дому. Темнота приводила меня в ужас. Я не мог спать в темноте, мне казалось, что привидения подкрадываются ко мне с одной стороны, воры - с другой, змеи - с третьей. Поэтому я спал только при свете.
- Друг знал о моих слабостях. Он рассказывал, что может брать в руки живых змей, не боится воров и не верит в привидения. И все это потому, что он ест мясо.
...О возможности полакомиться я и не думал и даже не знал, что мясо очень вкусное. Я хотел быть сильным и смелым и желал видеть такими же своих соотечественников, чтобы мы могли побороть англичан и освободить Индию.
...В те дни, когда я принимал участие в тайных пиршествах, я не обедал дома. Мать звала меня и хотела знать причину моего отказа. Я обычно отвечал ей: "У меня сегодня нет аппетита, что-то неладно с желудком". Придумывая отговорки, я испытывал угрызения совести, так как сознавал, что лгу, и притом лгу матери. Я знал также, что, если мать с отцом узнают о том, что я ем мясо, они будут глубоко потрясены. Мысль об этом терзала мое сердце.
Поэтому я сказал себе: "Хотя есть мясо, конечно, нужно и провести в нашей стране реформу питания необходимо, все же лгать отцу и матери еще хуже, чем есть мясо. Следовательно, пока живы родители, надо от мяса отказаться. Когда их не станет и я буду свободным, я буду открыто есть мясо, а пока воздержусь".
О своем решении я сообщил другу и с тех пор ни разу не прикоснулся к мясу.
...Я отказался от мяса, руководствуясь лишь чистым побуждением не лгать родителям. Но с другом я не порвал. Мое стремление исправить его оказалось для меня гибельным, но я этого совершенно не замечал.
Дружба с ним однажды чуть не довела меня до измены жене. Я спасся чудом. Друг повел меня в публичный дом. Он дал мне необходимые разъяснения. Все было предусмотрено, даже счет оплачен. Я направился прямо в объятия греха, но бог в своей безграничной милости спас меня от меня самого. Я внезапно оглох и ослеп в этом прибежище порока. Я сел около женщины на ее постель и молчал. Ей это, конечно, надоело, и, осыпав меня бранью и оскорблениями, она указала на дверь. Тогда я почувствовал, что мое мужское достоинство унижено, и готов был провалиться сквозь землю от стыда. Но впоследствии я не переставал благодарить бога за то, что он спас меня. У меня было в жизни еще четыре подобных злоключения, и каждый раз меня спасала моя счастливая судьба, а не какое-либо усилие с моей стороны. С чисто этической точки зрения эти случаи необходимо рассматривать как моральное падение. Налицо было плотское желание, а это равносильно действию. Но с точки зрения обычной морали человек, физически устранившийся от греха, считается спасенным. И я был спасен именно в этом смысле. В некоторых случаях человеку удается избежать греха в силу счастливой случайности. Как только человек вновь обретает способность истинного познания, он благодарит божественное милосердие за то, что ему удалось избежать грехопадения. Как известно, человек часто подвергается искушению, как бы он ни старался противостоять ему. Мы знаем также, что очень часто провидение вмешивается и спасает его вопреки его желанию. Как все это происходит, в какой степени человек свободен и в какой степени он жертва стечения обстоятельств, в каких пределах имеет место свободное волеизъявление и когда на сцене появляется судьба - все это тайна и останется тайной.
Безусловно, одной из причин моих разногласий с женой была дружба с этим человеком. Я был верным и в то же время ревнивым мужем. Друг же всячески раздувал пламя моей подозрительности по отношению к жене. Я не сомневался в его искренности и никогда не прощу себе страданий, которые причинял жене, действуя по его наущению. Вероятно, только жена индуса может вынести такие испытания. Поэтому я привык смотреть на женщину как на воплощение терпения. Несправедливо заподозренный слуга может бросить работу, сын при подобных обстоятельствах может покинуть дом отца, друг - порвать дружбу. Жена же, если она и заподозрит мужа, будет молчать, но если он заподозрит ее,- она погибла. Куда она пойдет? Жена индуса не может требовать развода в судебном порядке. Закон ей не поможет. И потому я не могу забыть и простить себе, что доводил жену до отчаяния.
Яд подозрений исчез только тогда, когда я понял ахимсу* во всех ее проявлениях. Я постиг все величие брахмачарии** и осознал, что жена не раба, а товарищ и помощник мужа, призванный делить с ним поровну все радости и печали. Как и муж, жена имеет право идти собственным путем. Когда я вспоминаю те мрачные дни сомнений и подозрений, меня охватывает гнев. Я презираю себя за безумие и похотливую жестокость, за слепую преданность другу.
* (Ахимса (букв, "отрицание химсы, насилия") - ненасилие, непричинение зла, воздержание от причинения страданий. Учение ахимсы существовало еще в древней Индии, а затем было развито в буддизме, индуизме и особенно в джайнизме. Современные последователи ахимсы рассматривают ее как принцип самодисциплины, отсутствия гнева, ненависти и т. д. Принцип ахимсы стал неотъемлемой частью политической доктрины Ганди.)
** (Брахмачария (букв, "устремление к божественному") - концепция в индуизме, согласно которой индус в стадии ученичества отказывается от чувственных наслаждений и ведет аскетический, целомудренный образ жизни.)
Школу я посещал с шести-семи лет до шестнадцати. Там меня учили всему, кроме религии. Я, пожалуй, не получил от учителей того, что они могли бы дать мне без особых усилий с их стороны. Но кое-какие крохи знаний я собрал от окружающих. Термин "религия" я употребляю здесь в самом широком смысле - как самопознание, или познание самого себя.
Будучи вишнуитом* по рождению, я должен был часто ходить в хавели**. Но он меня не привлекал. Мне не нравились его великолепие и пышность. Кроме того, до меня дошли слухи о совершавшихся там безнравственных поступках, и я потерял к нему всякий интерес. Таким образом, хавели дать мне ничего не мог.
* (Вишнуиты - поклонники бога Вишну (и его воплощений Рамы и Кришны). Вишнуизм, наряду с шиваизмом и брахманизмом,- самое распространенное течение в индуизме.)
** (Хавели - большой каменный дом, дворец; здесь: храм вишнуитов.)
Но то, чего я не получил там, дала мне моя няня, старая служанка нашей семьи. До сих пор с благодарностью вспоминаю о ее привязанности ко мне. Я уже говорил, что боялся духов и привидений. Рамбха - так звали няню - предложила мне повторять Раманаму* и тем избавиться от этих страхов. Я больше верил ей, чем предложенному ею средству, но с самого раннего возраста повторял Раманаму, чтобы освободиться от страха перед духами и привидениями. Это продолжалось, правда, недолго, но хорошее семя, брошенное в душу ребенка, не пропадает даром. Полагаю, что благодаря доброй Рамбхе Раманама для меня и теперь абсолютно верное лекарство.
* (Раманама - произнесение имени бога Рамы в качестве молитвы.)
Приблизительно в то же время мой двоюродный брат, поклонник "Рамаяны", заставил меня и моего второго брата выучить "Рама Ракшу"*. Мы заучивали ее наизусть и ежедневно, как правило по утрам после купанья, повторяли вслух. Мы делали это все время, пока жили в Порбандаре, но, переехав в Раджкот, забыли о "Рама Ракше". Я не слишком верил в нее и читал вслух "Рама Ракшу" отчасти из желания показать, что могу пересказывать ее наизусть с правильным произношением.
* ("Рама Ракша" - произведение средневековой индийской литературы на санскрите, воспевающее подвиги Рамы.)
Большое впечатление произвела на меня "Рамаяна", когда ее читали отцу. В первый период болезни отец жил в Порбандаре. Каждый вечер он слушал "Рамаяну"...
Несколько месяцев спустя мы переехали в Раджкот*. Там уже не было чтений "Рамаяны". Но "Бхагавата" читалась каждое экадаши**. Иногда и я присутствовал при чтении, но чтец не воодушевлял меня. В настоящее время я считаю "Бхагавату" книгой, способной вызвать большое религиозное рвение. С неослабевающим интересом прочел я ее на языке гуджарати. Но когда однажды во время моего трехнедельного поста мне ее прочитал в оригинале пандит*** Мадан Мохан Малавия, я пожалел, что не слышал ее в детстве из уст такого ревностного поклонника "Бхагаваты", каким был Малавия. Тогда я полюбил бы эту книгу с раннего детства. Впечатления, воспринятые в детстве, пускают глубокие корни, и я всегда жалею о том, что мне в ту пору не читали больше таких хороших книг.
* (Раджкот - индийское княжество со столицей того же наименования на п-ове Катхиавар.)
** (Экадаши (павитра экадаши) - религиозный обряд и ритуал в честь праздника экадаши, справляемого индусами в одиннадцатый день каждой из половин лунного месяца.)
*** (Пандит - всякий ученый человек: почетный титул, присваиваемый индусам, получившим богословское образование.)
Зато в Раджкоте я научился относиться терпимо ко всем сектам индуизма и родственным религиям. Мои родители посещали не только хавели, но и храмы Шивы и Рамы. Иногда они брали с собой и нас, а иногда посылали одних. Монахи-джайны часто бывали в доме отца и даже, изменяя своему обычаю, принимали от нас пищу, хотя мы не исповедовали джайнизм. Они беседовали с отцом на религиозные и светские темы.
У отца были также друзья среди мусульман и парсов. Они говорили с ним о своей вере, и он выслушивал их всегда с уважением и часто с интересом. Ухаживая за ним, я нередко присутствовал при этих беседах. Все это в совокупности выработало во мне большую веротерпимость.
Исключение в то время составляло христианство. К нему я испытывал чувство неприязни. И не без основания. Христианские миссионеры обычно располагались где-нибудь поблизости от школы и разглагольствовали, осыпая оскорблениями индусов и их богов. Этого я не мог вынести. Стоило мне только раз остановиться и послушать их, чтобы потерять всякую охоту к их проповедям. Примерно в это же время я узнал, что один весьма известный индус обратился в христианство. Весь город говорил о том, что после крещения он стал есть мясо и пить вино, стал ходить в европейском платье и даже носить шляпу. Меня это возмущало. Какая же это религия, если она принуждает человека есть мясо, пить спиртное и изменять одежду? Мне рассказали также, что новообращенный уже поносит религию своих предков, их обычаи и родину. Все это вызвало во мне антипатию к христианству.
Глубокие корни в моем сознании пустило убеждение, что мораль есть основа всех вещей, а истина - сущность морали. Истина стала моей единственной целью. Я укреплялся в этой мысли с каждым днем, и мое понимание истины все ширилось.
Я считаю неприкасаемость величайшим пятном позора на индуизме. К этому убеждению меня привел не собственный горький опыт в период борьбы в Южной Африке. Оно не следует из того факта, что я когда-то был агностиком. Неправомерна и мысль, что я позаимствовал его из религиозных христианских источников. Эти мои взгляды восходят к тем временам, когда я еще не читал Библии и не был очарован ею, когда я еще не знал ее почитателей.
Мне не исполнилось и двенадцати лет, когда эта мысль осенила меня. Мусорщик по имени Ука, неприкасаемый, приходил в наш дом чистить уборные. Я часто спрашивал мать, почему его нельзя касаться, почему это мне запрещено. Если я случайно дотрагивался до Уки, родители требовали, чтобы я совершил омовения, и я, естественно, подчинялся, но возражал с улыбкой, что неприкасаемость не освящена религией и не может быть ею освящена. Я был очень послушным ребенком, но, насколько позволяло мне почтение к родителям, вступал с ними в спор по этому поводу. Я говорил матери, что она глубоко заблуждается, считая прикосновения к Уке греховным.
Выпускные экзамены на аттестат зрелости я сдал в 1887 году.
Родители хотели, чтобы, получив аттестат зрелости, я поступил в колледж. Колледжи имелись в Бавнагаре и Бомбее. Я решил отправиться в Бавнагар в Самалдасский колледж, так как это было дешевле. Оказавшись в колледже, я совершенно растерялся: мне было очень трудно слушать лекции, не говоря уже о том, чтобы вникать в них. Виноваты были не преподаватели, которые считались первоклассными, а я сам, так как был совершенно не подготовлен. По окончании первого семестра я вернулся домой.
Мавджи Даве - умный и ученый брахман - был старым другом и советником нашей семьи. Дружеские отношения с ним сохранились и после смерти отца. Как-то во время моих каникул он зашел к нам и разговорился с матерью и старшим братом относительно моих занятий. Узнав, что я учуть в Самалдасском колледже, он сказал:
- Времена изменились... На вашем месте я послал бы его в Англию. Сын мой Кевалрам говорит, что стать адвокатом совсем нетрудно. Через три года он вернется. Расходы не превысят четырех-пяти тысяч рупий. Представьте себе адвоката, вернувшегося из Англии. Он будет жить шикарно! По первой же просьбе получит пост дивана. Я очень советую послать Мохандаса в Англию в этом году.
...Мать все еще возражала. Она занялась расспросами об Англии. Кто-то сказал ей, что молодые люди неизменно погибают в Англии; другие говорили, что там привыкают есть мясо; третьи - что там невозможно жить без спиртных напитков.
- Как же быть со всем этим? - спросила она меня.
Я сказал:
- Ты веришь мне? Я не буду тебе лгать. Клянусь, что никогда не притронусь ко всему этому. Неужели Джоши-джи отпустил бы меня, если бы мне грозила какая-нибудь опасность?..
Я поклялся не дотрагиваться до вина, женщин и мяса. После этого мать дала разрешение.
...Получив разрешение и благословение матери, я уехал с радостным чувством, оставив дома жену и грудного ребенка. Но по прибытии в Бомбей тамошние наши друзья стали говорить брату, что в июне и июле в Индийском океане бывают бури и что, поскольку я отправляюсь в морское путешествие впервые, не следует пускаться в плавание раньше ноября. Кто-то рассказал, как во время последнего шторма затонул пароход. Брат был встревожен всем услышанным и отказался сразу отпустить меня. Он оставил меня у своего приятеля в Бомбее, а сам вернулся в Раджкот, предварительно заручившись обещанием друзей оказать мне в случае необходимости поддержку; деньги же, ассигнованные на мое путешествие, отдал на хранение зятю.
В Бомбее дни тянулись для меня мучительно медленно. Я все время мечтал о поездке в Англию.
Между тем представители моей касты всполошились. Ни один моди-бания* не бывал в Англии, а если я осмелился на это, меня следовало привлечь к ответу. Созвали общее собрание касты и приказали мне прийти. Я пошел. Сам не знаю, откуда у меня взялась такая смелость. Без страха и сомнений появился я на собрании. Шет** - глава общины, находившийся со мной в отдаленном родстве и бывший в очень хороших отношениях с моим отцом, заявил мне:
* (Моди-бания - каста торговцев и ростовщиков в Гуджарате и Махараштре.)
** (Шет (или сетх) - старшина общины купцов, вообще богатый купец; приставка к именам богатых купцов.)
- Каста осуждает ваше намерение ехать в Англию. Наша религия запрещает путешествия за границу. Кроме того, мы слышали, что там невозможно жить, не нарушая заветов нашей веры. Там надо будет есть и пить вместе с европейцами!
Я ответил:
- Не думаю, чтобы поездка в Англию противоречила заветам нашей религии. Я хочу поехать, чтобы продолжить образование. И я торжественно обещал матери воздерживаться от трех вещей, которых вы больше всего боитесь. Уверен, что этот обет защитит меня.
- Но мы утверждаем,- сказал шет,- что там невозможно не изменить своей религии. Вы знаете, в каких отношениях я был с вашим отцом, и потому должны послушаться моих советов.
- Я знаю об этих отношениях, к тому же вы старше меня. Но ничего не могу поделать. Я не могу отказаться от своего решения ехать. Друг и советчик отца, ученый брахман, не видит ничего дурного в моей поездке в Англию. Брат и мать также дали мне разрешение.
- Вы осмеливаетесь не повиноваться велениям касты?
- Я ничего не могу поделать. Мне кажется, что касте не следует вмешиваться в это дело.
Шет был разгневан и отругал меня. Я был непреклонен. Тогда шет произнес свой приговор:
- С сегодняшнего дня юноша этот считается вне касты. Кто окажет ему помощь или пойдет провожать на пристань, будет оштрафован на одну рупию четыре аны*.
* (Ана - мелкая индийская монета (до 1961 г.- 1/16 часть рупии).)
Приговор не произвел на меня никакого впечатления, и я спокойно простился с шетом. Меня интересовало лишь одно - как воспримет это брат. К счастью, он остался тверд и написал мне, что, несмотря на распоряжение шета, разрешает мне ехать.
В Саутхемптон мы прибыли, помнится, в субботу...
Все было чужое: народ, его обычаи и даже дома. Я совершенно не знал английского этикета и все время должен был держаться настороже. А мой обет вегетарианства причинял мне еще большие неудобства. Те блюда, которые я мог есть, были пресны и безвкусны. Я очутился между Сциллой и Харибдой. Англия была мне не по нутру. Но о том, чтобы вернуться в Индию, не могло быть и речи. "Раз ты сюда приехал, то должен пробыть положенные три года",- подсказывал мне внутренний голос.
Много хлопот доставляло мне питание. Я не мог есть вареные овощи, приготовленные без соли и других приправ. Хозяйка не знала, чем меня кормить... Приятель убеждал меня есть мясо, но я, ссылаясь на свой обет, прекращал разговор на эту тему... Как-то раз мой друг начал читать мне "Теорию утилитаризма" Бентама. Я совершенно растерялся. Язык был настолько труден, что я ничего не понимал. Он стал разъяснять. Тогда я сказал:
- Извините меня, пожалуйста. Эти сложные рассуждения выше моего понимания. Допускаю, что необходимо есть мясо. Но не могу нарушить данный мною обет и не хочу спорить на эту тему.
Я искал вегетарианский ресторан. Хозяйка сказала мне, что в Сити есть и такие. Я отмеривал в день по десять-двенадцать миль, заходил в дешевенький ресторан и наедался хлебом, но все же постоянно ощущал голод. Во время этих странствований набрел я однажды на вегетарианский ресторан на Фаррингдон-стрит. При виде его меня охватило чувство радости, подобное тому, какое испытывает ребенок, получив давно желанную игрушку. При входе я заметил в окнах у двери книги, выставленные для продажи. Среди них была книга Солта "В защиту вегетарианства". Купив ее за шиллинг, я прошел в столовую. Здесь впервые со времени приезда в Англию я сытно поел. Бог пришел мне на помощь.
Я прочел книгу Солта от корки до корки, и она произвела на меня сильное впечатление. С тех пор благодаря ей я стал убежденным вегетарианцем. Я благословил день, когда дал обет матери. До сих пор я воздерживался от мяса лишь потому, что не хотел лгать и нарушать свой обет. В то же время я желал, чтобы все индийцы стали есть мясо, и предполагал, что со временем и сам буду свободно и открыто делать это и склонять к этому других. Теперь же я сделал выбор в пользу вегетарианства, и распространение его стало с тех пор моей миссией.
Вновь обращенный с большим энтузиазмом выполняет предписания своей новой религии, чем тот, кто от рождения принадлежит к ней. Вегетарианство в те времена было новым культом в Англии, оно стало новым культом и для меня, потому что, как мы видели, я приехал туда убежденным сторонником употребления в пищу мяса, но позднее был сознательно обращен в вегетарианство. Полный рвения, присущего новичку, я решил основать клуб вегетарианцев в своем районе, Бейсуотере. Я пригласил сэра Эдвина Арнолда, проживавшего в этом районе, в качестве вице-президента клуба. Редактор "Веджетериэн" д-р Олдфилд стал президентом, а я - секретарем.
Я был избран членом исполнительного комитета Вегетарианского общества и взял за правило присутствовать на каждом его заседании, но всегда чувствовал себя на заседаниях весьма скованно... Я молчал не потому, что мне никогда не хотелось выступить. Но я не знал, как выразить свои мысли... Застенчивость не покидала меня во все время пребывания в Англии. Даже нанося визит, я совершенно немел от одного присутствия полдюжины людей.
Должен заметить, что моя застенчивость не причиняла мне никакого вреда, кроме того, что надо мной иногда подсмеивались друзья. А иногда и наоборот: я извлекал из этого пользу. Моя нерешительность в разговоре, раньше огорчительная, теперь радовала меня. Ее величайшее достоинство состояло в том, что она научила меня экономить слова. Я привык кратко формулировать свои мысли.
К концу второго года пребывания в Англии я познакомился с двумя теософами, которые были братьями и оба холостяками. Они заговорили со мной о "Гите". Они читали "Небесную песнь" в переводе Эдвина Арнолда и предложили мне почитать вместе с ними подлинник. Было стыдно признаться, что я не читал этой божественной поэмы ни на санскрите, ни на гуджарати. Но я вынужден был сказать, что не читал "Гиты" и с удовольствием прочту ее вместе с ними и что, хотя знаю санскрит плохо, надеюсь, что сумею отметить те места, где переводчику не удалось передать подлинник. Мы начали читать "Гиту". Стихи из второй главы произвели на меня глубокое впечатление и до сих пор звучат у меня в ушах:
Если думать об объекте чувства, возникает
Влечение; влечение порождает желание,
Желание разгорается в безудержную страсть,
страсть ведет за собой
Безрассудство; потом останется лишь воспоминание -
и покажется, что все это был мираж.
Пусть благородная цель исчезнет и испепелит разум
До того, как цель, разум и человек погибнут.
Книга показалась мне бесценной. Со временем я еще более укрепился в своем мнении и теперь считаю эту книгу главным источником познания истины. Обращение к "Гите" неизменно помогало мне и в минуты отчаяния. Я прочел почти все английские переводы "Гиты" и считаю перевод Эдвина Арнолда лучшим. Он очень точен, и в то же время не чувствуется, что это перевод. Читая "Гиту" со своими друзьями, я не изучил ее тогда. Только через несколько лет она стала моей настольной книгой.
В 1890 году в Париже открылась Всемирная выставка. Я читал о большой подготовительной работе к ней, а также всегда горел желанием увидеть Париж. Я подумал, что было бы хорошо осуществить оба желания - повидать Париж и выставку одновременно. Особое место на выставке занимала Эйфелева башня высотой около тысячи футов, полностью сооруженная из металла. Конечно, на выставке было много и других любопытных вещей, но Эйфелева башня была главной достопримечательностью, так как до этого считалось, что сооружение такой высоты не может быть прочным.
...О выставке у меня осталось воспоминание как о чем- то огромном и многообразном. Я прекрасно помню Эйфелеву башню, так как дважды или трижды поднимался на нее. На вершине башни был устроен ресторан, и я позавтракал там, выбросив семь шиллингов лишь для того, чтобы иметь право сказать, что я ел на такой большой высоте.
До сих пор в моей памяти сохранились старинные церкви Парижа. Грандиозность и исходящее от них спокойствие незабываемы. Удивительную архитектуру собора Парижской богоматери, превосходно отделанного и внутри, с изумительными скульптурами, забыть невозможно. Я ощутил тогда, что сердца людей, потративших миллионы на строительство подобных храмов, были преисполнены любви к богу.
Должен сказать еще несколько слов об Эйфелевой башне. Не знаю, каким целям она служит сегодня, но в то время одни говорили о ней с пренебрежением, другие - с восторгом. Помню, что Толстой больше других ругал ее. Он сказал, что Эйфелева башня - памятник человеческой глупости, а не мудрости. Табак, говорил он, худший из всех наркотиков. С тех пор как человек пристрастился к нему, он стал совершать преступления, на которые пьяница никогда не решится: алкоголь делает человека бешеным, а табак затемняет ум, и он начинает строить воздушные замки. Эйфелева башня и есть одно из сооружений человека, находящегося в таком состоянии. Искусство не имеет никакого отношения к Эйфелевой башне. О ней никак нельзя было сказать, что она украшала выставку. Она привлекала новизной и уникальными размерами, и толпы людей устремлялись к ней. Она была игрушкой. А поскольку все мы - дети, игрушки привлекают нас. Башня еще раз доказала это. Этим целям, вероятно, Эйфелева башня и призвана была служить.
10 июня 1891 года я кончил экзамены и получил разрешение заниматься адвокатской практикой. 11 июня мое имя было занесено в списки адвокатов при Верховном суде. 12 июня я отплыл на родину.
Старший брат возлагал на меня большие надежды. Он жаждал богатства, известности, славы. У него было благородное, чрезвычайно доброе сердце. Это качество в сочетании с простотой привлекало к нему многих людей, и с их помощью он надеялся обеспечить меня клиентами. Он рассчитывал, что у меня будет громадная практика, и в расчете на это чрезмерно увеличил домашние расходы. Он прилагал все старания, подготовляя поле деятельности для меня.
Однако я не мог прожить в Бомбее дольше четырех-пяти месяцев; не хватало средств, чтобы покрывать постоянно растущие расходы.
Вот как я начал жизнь. Я понял, что профессия адвоката - плохое занятие, много показного и мало знаний. Во мне росло чувство ответственности.
С чувством разочарования покинул я Бомбей и переехал в Раджкот, где открыл собственную контору. Устроился я сравнительно неплохо. Составлением заявлений и прошений я зарабатывал в среднем до трехсот рупий в месяц.
Между тем один меманский торговый дом* в Порбандаре обратился к моему брату со следующим предложением: "У нас дела в Южной Африке. Наша фирма - солидное предприятие. Мы ведем там сейчас крупный процесс по иску в сорок тысяч фунтов стерлингов. Он тянется уже долгое время. Мы пользуемся услугами лучших вакилов** и адвокатов. Если бы вы послали туда своего брата, это принесло бы пользу и нам и ему. Он смог бы проинструктировать нашего поверенного лучше нас самих, а кроме того, получил бы возможность увидеть новую часть света и завязать новые знакомства".
* (Меманский торговый дом.- Меманы - мусульманская каста торговцев. Выходцы из Синда, Катхиавара и Кача. К концу XIX в. расселились по всему Индостану и за его пределами (в том числе в Южной Африке).)
** (Вакил - адвокат, поверенный в делах.)
Меня приглашали скорее в качестве служащего фирмы, чем адвоката. Но мне почему-то хотелось уехать из Индии. Кроме того, меня привлекала возможность повидать новую страну и приобрести опыт. Я смог бы также высылать брату сто пять фунтов стерлингов и помогать ему в расходах на хозяйство. Не торгуясь, я принял предложение и стал готовиться к отъезду в Южную Африку.
Уезжая в Южную Африку, я не испытывал при разлуке той щемящей боли, которую пережил, отправляясь в Англию. Матери теперь не было в живых. Я имел некоторое представление о мире и о путешествии за границу, да и поездка из Раджкота в Бомбей стала уже обычным делом.
На этот раз я почувствовал лишь внезапную острую боль, расставаясь с женой. С тех пор как я вернулся из Англии, у нас родился еще один ребенок. Нельзя сказать, чтобы наша любовь была уже свободной от похоти, но постепенно она становилась все чище. Со времени моего возвращения из Европы мы очень мало жили вместе. А так как теперь я был ее учителем, хотя и не беспристрастным, и помогал ей реформировать ее жизнь, то мы оба чувствовали, что нам необходимо больше быть вместе, чтобы и в дальнейшем осуществлять свои реформы. Однако соблазнительность поездки в Южную Африку делала разлуку терпимой.
Портовым городом провинции Наталь является Дурбан, его называют также Порт-Наталь. Там и встретил меня Абдулла Шет. Когда пароход подошел к причалу и на палубу поднялись друзья и знакомые прибывших, я заметил, что с индийцами обращались не очень почтительно. Я не мог не обратить внимания на то, что знакомые Абдуллы Шета проявляли в обращении с ним какое-то пренебрежительное высокомерие. Меня это задело за живое, а Абдулла Шет, по-видимому, притерпелся. Я вызывал любопытство. Одежда выделяла меня среди прочих индийцев. На мне был сюртук и тюрбан наподобие бенгальского пагри*.
* (Пагри - головной убор, чалма.)
На седьмой или восьмой день после своего прибытия я выехал из Дурбана. Для меня приобрели билет первого класса... Примерно в десять часов вечера поезд пришел в Марицбург, столицу Наталя. Постельные принадлежности обычно давали на этой станции. Ко мне подошел железнодорожный служащий и спросил, возьму ли я их. Я ответил: "Нет, у меня есть свои". Он ушел. Но вслед за ним в купе вошел новый пассажир и стал оглядывать меня с ног до головы. Ему не понравилось, что я "цветной". Он вышел и вернулся с одним или двумя служащими. Все они молча смотрели на меня, потом пришел еще один служащий и сказал:
- Выходите, вы должны пройти в багажный вагон.
- Но у меня билет первого класса,- сказал я.
- Это ничего не значит,- возразил он,- ступайте в багажное отделение.
- А я вам говорю, что в Дурбане получил место в этом вагоне, и настаиваю на том, чтобы остаться здесь.
- Нет, вы здесь не останетесь,- сказал чиновник.- Вы должны покинуть этот вагон, иначе мне придется позвать констебля, и он вас высадит.
- Пожалуйста, зовите. Я отказываюсь выйти добровольно.
Явился констебль, взял меня за руку и выволок из вагона. Мой багаж тоже вытащили. Я отказался перейти в другой вагон, и поезд ушел. Я пошел в зал ожидания и сел там. При мне был только чемодан, остальной багаж я бросил на произвол судьбы. О нем позаботилась железнодорожная администрация.
Дело было зимой, а зима в высокогорных районах Южной Африки суровая, холодная. Марицбург расположен высоко над уровнем моря, и холода здесь бывают ужасные. Мое пальто было в багаже, но я не решался спросить о нем, чтобы не подвергнуться новым оскорблениям. Я сидел, и дрожал от холода. В зале было темно. Около полуночи вошел какой-то пассажир и, по-видимому, намеревался поговорить со мной. Но мне было не до разговоров.
Я думал о том, что делать: бороться ли за свои права или вернуться в Индию, или, быть может, продолжать путь в Преторию, не обращая внимания на оскорбления, и вернуться в Индию по окончании дела? Убежать назад в Индию, не исполнив своего обязательства, было бы трусостью. Лишения, которым я подвергался, были проявлением серьезной болезни - расовых предрассудков. Я должен попытаться искоренить этот недуг, насколько возможно, и вынести ради этого все предстоящие лишения. Удовлетворения за обиду я должен требовать лишь постольку, поскольку это необходимо для устранения расовых предрассудков.
Поэтому я решил ехать в Преторию ближайшим поездом.
Поезд пришел в Чарлстаун утром. В то время между Чарлстауном и Иоганнесбургом еще не было железнодорожного сообщения. Приходилось ехать в дилижансе, который делал остановку en route* на ночь в Стандертоне. У меня был билет на дилижанс, и он не утратил силу, несмотря на мою задержку на день в Марицбурге. Кроме того, Абдулла Шет телеграфировал обо мне агенту компании дилижансов в Чарлстауне.
* (В пути (фр.).)
Чтобы не впустить меня в дилижанс, нужен был предлог, и агент нашел его. Заметив, что я иностранец, он сказал: "Ваш билет недействителен". Я разъяснил ему, в чем дело. Но он продолжал настаивать на своем и не потому, что в дилижансе не было мест, а совсем по другой причине. Пассажиров надо было разместить внутри дилижанса, но так как я был для них "кули", да еще не здешний, то "проводник", как называли белого, распоряжавшегося дилижансом, решил, что меня не следует сажать вместе с белыми пассажирами. В дилижансе было еще два сиденья по обе стороны от козел. Обычно проводник занимал одно из наружных мест. На этот раз он сел внутри дилижанса, а меня посадил на свое место. Я понимал, что это полнейший произвол и издевательство, но счел за лучшее промолчать. Я бы все равно не добился, чтобы меня пустили в дилижанс, а если бы стал спорить, дилижанс ушел бы без меня. Я потерял бы еще день, и только небу известно, не повторилась ли бы эта история и на следующий день. Поэтому, как ни кипело у меня все внутри, я благоразумно уселся рядом с кучером.
Приблизительно в три часа дня дилижанс прибыл в Пардекоф. Теперь проводнику захотелось сесть на мое место, чтобы покурить, а может быть, просто подышать свежим воздухом. Взяв у кучера кусок грязной мешковины, он разостлал его на подножке и, обращаясь ко мне, сказал:
- Сами*, ты сядешь здесь, а я хочу сидеть рядом с кучером.
* (Сами - здесь: презрительное обращение.)
Такого оскорбления я не мог снести. Дрожа от негодования и страха, я сказал ему:
- Вы посадили меня здесь, хотя обязаны были поместить внутри дилижанса. Я стерпел это оскорбление. Теперь же, когда вам хочется курить, вы заставляете меня сесть у ваших ног. Этого я не сделаю, но готов перейти внутрь дилижанса.
В то время как я с трудом выговаривал эти слова, проводник набросился на меня и надавал мне хороших затрещин, затем попытался за руки стащить вниз. Я вцепился в медные поручни козел и решил не выпускать их, даже с риском переломать руки. Пассажиры были свидетелями этой сцепы,- они видели, как этот человек бранил и бил меня, в то время как я не проронил ни слова. Он был гораздо сильнее меня. Некоторым пассажирам стало жаль меня, и они начали уговаривать проводника:
- Да оставьте его в покое. Не бейте его. Он же ни в чем не виноват. Он прав. Если ему нельзя сидеть там, пустите его к нам в дилижанс.
- Не вмешивайтесь! - крикнул проводник, но, по-видимому, несколько струхнул и перестал меня бить. Он отпустил меня и, продолжая браниться, приказал слуге-готтентоту*, сидевшему по другую сторону от кучера, пересесть на подножку, сам же сел на освободившееся место.
* (Готтентоты - (самоназвание - кой-коин) - один из древнейших народов Южной Африки.)
Пассажиры заняли свои места; раздался свисток, и дилижанс загромыхал по дороге. Сердце мое сильно билось. Я уже не верил, что доберусь живым до места назначения. Проводник все время злобно поглядывал на меня и ворчал: "Вот только дай добраться до Стандертона, там я тебе покажу!" Я сидел молча и лишь молил бога о помощи. Уже стемнело, когда мы приехали в Стандертон, и я с облегчением вздохнул, увидев индийские лица. Как только я сошел вниз, мои новые друзья сказали: "Мы получили телеграмму от Дада Абдуллы и пришли, чтобы отвести вас в лавку Псы Шета". Я был очень обрадован этим. Мы пошли в лавку шета Исы Ходжи Сумара. Шет и его служащие окружили меня. Я рассказал обо всем случившемся. Горько было им слушать это, и они старались утешить меня рассказами о такого же рода неприятностях, которые пришлось пережить и им.
Я хотел сообщить обо всем случившемся агенту компании дилижансов. С этой целью я написал ему письмо, изложив все подробности и особенно обратив его внимание на угрозы его подчиненного в мой адрес. Я просил также гарантировать, чтобы меня поместили вместе с другими пассажирами в дилижансе на следующее утро, когда мы снова отправимся в путь. На это агент ответил мне: "Из Стандертона пойдет дилижанс гораздо большего размера, его сопровождают другие лица. Человека, на которого вы жалуетесь, завтра здесь не будет, и вы сядете вместе с другими пассажирами". Это несколько успокоило меня. Я, конечно, не собирался возбуждать дело против человека, который нанес мне оскорбление действием, так что инцидент можно было считать исчерпанным.
Утром служащий Исы Шета проводил меня к дилижансу. Я получил удобное место и в тот же вечер благополучно прибыл в Иоганнесбург.
Стандертон - небольшая деревушка, а Иоганнесбург - крупный город. Абдулла Шет уже телеграфировал туда и сообщил мне адрес тамошней фирмы Мухаммада Касама Камруддина. Служащий этой фирмы должен был встретить меня на станции, но мы друг друга не узнали. Поэтому я решил отправиться в гостиницу. Я знал названия нескольких гостиниц. Взяв извозчика, я велел ехать в Большую национальную гостиницу. Там я прошел к управляющему и попросил комнату. С минуту он разглядывал меня, потом вежливо ответил:
- Очень жаль, но у нас нет свободных номеров,- и откланялся.
Тогда я поехал в магазин Мухаммада Касама Камруддина. Абдул Гани Шет уже ждал меня здесь и сердечно приветствовал. Он от души посмеялся над моим приключением в гостинице.
- Неужели вы думали, что вас пустят в гостиницу?
- А почему бы и нет? - спросил я.
- Это вы поймете, когда пробудете здесь несколько дней,- сказал он.- Только мы можем жить в такой стране, потому что, стремясь заработать деньги, не обращаем внимания на оскорбления, и вот результаты.
Затем он рассказал о притеснениях, которые терпели индийцы в Южной Африке.
- Страна эта не для таких, как вы. Вот, например, завтра вам надо будет ехать в Преторию. Вам придется ехать третьим классом. В Трансваале наше положение еще хуже, чем в Натале*. Здесь индийцам вообще не дают билетов в первом и втором классе.
* (Наталь - провинция Южно-Африканского Союза, в 1910 г. включена в его состав. В Натале шила основная часть индийского населения Южной Африки.)
- Вы, наверное, не добивались этого достаточно упорно?
- Мы посылали депутации, но, признаюсь, обычно наши люди сами не хотят ехать ни первым, ни вторым классом.
Я попросил достать мне железнодорожные правила и прочитал их. Они были запутаны. Старое трансваальское* законодательство не отличалось точностью формулировок, железнодорожные правила тем более.
* (Трансвааль - провинция Южно-Африканского Союза. В 1856 г. буры - потомки голландских колонистов в Южной Африке,- поработив или истребив коренное африканское население, образовали независимую республику Трансвааль. В результате англо-бурской войны 1899-1902 гг. Великобритания захватила Трансвааль, а в 1910 г. он вошел в состав образовавшегося Южно-Африканского Союза.)
Я сказал шету:
- Я хочу ехать первым классом, а если это невозможно, то предпочту нанять экипаж до Претории, ведь до нее всего тридцать семь миль.
Шет Абдул Гани заметил, что это потребует больше времени и денег, однако одобрил мое намерение ехать первым классом. Я послал записку начальнику станции, в которой указал, что я адвокат и всегда езжу первым классом. Кроме того, я написал, что мне необходимо быть в Претории как можно скорее, что я лично приду за ответом на вокзал, так как у меня нет времени ждать, и что я надеюсь получить билет в первом классе. Я намеренно подчеркнул, что приеду за ответом, так как полагал, что письменный ответ скорее будет отрицательным: ведь у начальника станции могло быть свое собственное представление о "кули-адвокате". Если же я явлюсь к нему в безукоризненном английском костюме и поговорю с ним, возможно, мне удастся убедить его дать билет первого класса. Итак, я отправился на вокзал в сюртуке и галстуке, положил на конторку соверен в качестве платы за проезд и попросил дать мне билет первого класса.
- Это вы прислали мне записку? - спросил он.
- Да, вы очень меня обяжете, если дадите билет. Мне нужно быть в Претории сегодня же.
Он улыбнулся и, сжалившись, сказал:
- Я не трансваалец. Я голландец. Я понимаю вас и сочувствую вам. Я дам вам билет, однако обещайте мне, что если проводник потребует, чтобы вы перешли в третий класс, вы не будете впутывать меня в это дело, то есть я хочу сказать, вы не будете возбуждать судебного дела против железнодорожной компании. Желаю вам благополучно доехать. Я вижу, вы джентльмен.
Шет Тайиб Ходжи Хан Мухаммад занимал в Претории такое же положение, как Дада Абдулла в Натале. Ни одно общественное начинание не обходилось без него. Я познакомился с ним в первую же неделю и сказал, что намерен сблизиться со всеми индийцами в Претории. Я выразил желание ознакомиться с их положением и просил его помочь мне, на что он охотно согласился.
Я начал с того, что созвал собрание, пригласив всех индийцев Претории, и нарисовал им картину их положения в Трансваале... Речь, произнесенная мною на этом собрании, была, можно сказать, моим первым публичным выступлением. Я хорошо подготовился к выступлению, посвятив его вопросу о добросовестности в коммерции. Я то и дело слышал от купцов, что правдивость невозможна в коммерческих делах. Я этого мнения не разделял и не разделяю до сих пор. И теперь у меня есть друзья-коммерсанты, которые утверждают, что правдивость и коммерция несовместимы. Коммерция, говорят они, дело практическое, а правдивость - из области религии; и они доказывают, что практические дела одно, а религия совсем другое. Не может быть и речи о том, считают они, чтобы в коммерческих делах оставаться до конца правдивым, говорить правду можно только, когда это удобно. В своей речи я решительно оспаривал это мнение, стараясь пробудить в купцах сознание долга, которое им вдвойне необходимо. Их обязанность быть добросовестными была тем важнее в чужой стране, что по поступкам немногих индийцев здесь судят о миллионах наших соотечественников. Я считал, что наш народ живет в антисанитарных условиях по сравнению с англичанами, окружающими нас, и привлек внимание собравшихся к этому факту. Я подчеркнул необходимость забыть всякие различия между индусами, мусульманами, парсами, христианами, гуджаратцами, мадрасцами, панджабцами, синдхами, каччхами, суратцами и т. д.
В заключение я предложил организовать ассоциацию, от имени которой можно было бы сделать представления властям относительно притеснений, испытываемых индийскими поселенцами, и изъявил готовность отдать этому делу столько времени и сил, сколько смогу.
Я видел, что речь моя произвела большое впечатление на собравшихся... Я был удовлетворен результатами собрания. Было решено созывать такие собрания, насколько мне помнится, раз в неделю или, может быть, раз в месяц. Они устраивались более или менее регулярно, и на них происходил свободный обмен мнениями. Вскоре в Претории не было ни одного индийца, которого бы я не знал и с условиями жизни которого не был бы знаком.
В Оранжевой республике* индийцы были лишены всех прав специальным законом, принятым в 1888 году или даже раньше. Индийцу разрешалось поселиться здесь только в том случае, если он служил лакеем в гостинице или исполнял другие обязанности этого же рода. Торговцы были изгнаны, получив лишь номинальную компенсацию. Они протестовали, подавали петиции, но безрезультатно.
* (Оранжевая республика - провинция Южно-Африканского Союза. В 1854 г. буры образовали Оранжевое свободное государство, истребив или поработив коренное население завоеванных областей. В 1899-1902 гг. в результате англо-бурской войны Оранжевое свободное государство было захвачено Великобританией; в 1910 г. вошло в состав образовавшегося Южно-Африканского Союза.)
Весьма суровый закон был принят в Трансваале в 1885 году. В 1886 году в него были внесены некоторые изменения. Этот закон с принятыми к нему поправками обязывал индийцев при въезде в Трансвааль платить подушный налог в сумме трех фунтов стерлингов. Им разрешалось приобретать земли только в специально для них отведенных местах, причем правом собственности они и там фактически не пользовались. Индийцы были лишены также избирательного права. Все это предусматривалось специальным законом для "азиатов", на которых распространялись, кроме того, все законы, установленные для "цветных". Согласно законам для "цветных", индийцы не имели права ходить по тротуару и появляться без разрешения на улице после девяти часов вечера.
Запрещение ходить по тротуарам имело для меня серьезные последствия. Я всегда ходил гулять в поле через Президентскую улицу. На этой улице находился дом президента Крюгера. Это было весьма скромное здание, без сада, ничем не отличающееся от соседних домов. Многие дома в Претории выглядели гораздо претенциознее, их окружали сады. Скромность президента Крюгера вошла в поговорку. Только наличие полицейской охраны у дома свидетельствовало о том, что здесь живет должностное лицо. Почти всегда я беспрепятственно проходил по тротуару мимо полицейского.
Но дежурные менялись. Однажды полицейский без всякого предупреждения, даже не попросив сойти с тротуара, грубо столкнул меня на мостовую. Я испугался. Прежде чем я успел спросить, что это значит, меня окликнул м-р Коатс, который случайно проезжал здесь верхом.
- Ганди, я видел все. Я охотно буду свидетелем на суде, если вы возбудите дело против этого человека. Очень огорчен, что с вами так грубо обошлись.
- Не стоит расстраиваться,- сказал я.- Что понимает этот несчастный? Все цветные для него одинаковы. Он поступил со мной так же, как со всеми неграми. Я взял себе за правило не обращаться в суд с жалобами личного характера. Поэтому я не собираюсь подавать на него в суд.
Этот случай усилил мое сочувствие к индийским поселенцам... Таким образом, я узнал тяжелые условия жизни индийских поселенцев, не только читая и слушая рассказы, но и на личном опыте. Я видел, что Южная Африка не та страна, где может жить уважающий себя индиец, и меня все больше занимал вопрос о том, как изменить такое положение вещей.
Годичное пребывание в Претории обогатило мою жизнь. Именно здесь получил я возможность научиться и овладеть кое-какими навыками общественной деятельности. Именно здесь религиозный дух стал моей жизненной опорой, и здесь также я приобрел настоящее знание юридической практики.
Я понял, что настоящая цель адвоката - примирять тяжущиеся стороны.
Этот урок остался в моей памяти на всю жизнь, и в течение последующих двадцати лет своей адвокатской практики в сотнях случаев мне удавалось заканчивать дела частным соглашением. При этом я не оставался в убытке - не потерял денег и не растратил души.
Горячие и чистые веления сердца всегда исполняются. В этом я часто убеждался на личном опыте. Служение бедным - таково веление моего сердца, оно всегда толкало меня к беднякам и позволяло слиться с ними.
В Индийский конгресс Наталя входили индийцы - уроженцы колонии и конторские служащие, а неквалифицированные рабочие и законтрактованные рабочие оставались за его пределами. Конгресс все еще не был для них своим. Они не в состоянии были платить взносы и в Конгресс не вступали. Конгресс мог бы завоевать их симпатии, только если бы стал служить им. Такая возможность представилась, когда ни Конгресс, ни я не были готовы к этому. Я проработал всего три или четыре месяца, и Конгресс переживал еще младенческий возраст. Ко мне явился тамил в рваной одежде, с головным убором в руках. Ему выбили два передних зуба, весь рот был в крови. Плача и дрожа всем телом, он рассказал, что его избил хозяин. Рассказ его во всех подробностях мне перевел мой конторщик, тоже тамил. Баласундарам - так звали посетителя - был законтрактованным рабочим у известного в Дурбане европейца. Рассердившись на него, хозяин вышел из себя и жестоко поколотил Баласундарама, выбив ему два зуба.
Я отправил рабочего к доктору. В то время врачи были только белые. Я хотел получить медицинское свидетельство с указанием характера нанесенных Баласундараму побоев. Получив такое свидетельство, я немедленно свел потерпевшего к судье, которому передал показания Баласундарама, данные под присягой. Прочитав их, судья возмутился и вызвал хозяина повесткой в суд.
Дело Баласундарама стало известно всем законтрактованным рабочим, и они теперь считали меня своим другом. Я от всей души радовался этой дружбе. Ко мне в контору приходило много законтрактованных рабочих, и я получил прекрасную возможность ознакомиться с их радостями и горестями.
...Служение индийцам Южной Африки открывало мне каждый раз новое значение истины. Истина подобна огромному дереву, которое приносит тем больше плодов, чем больше за ним ухаживают. Чем более глубокие поиски в кладезе истины вы будете производить, тем больше закрытых там сокровищ откроется вам. Они облечены в форму многообразных возможностей служения обществу.
Если я оказался всецело поглощен служением общине, то причина этого заключалась в моем стремлении к самопознанию. Я сделал своей религией религию служения, так как чувствовал, что только так можно познать бога. Служение было для меня служением Индии, потому что оно пришло ко мне без усилий с моей стороны, просто я имел склонность к этому. Я отправился в Южную Африку, чтобы попутешествовать, а также избежать катхиаварских интриг и добывать самому средства к жизни. Но, как я уже говорил, я обрел себя в поисках бога и в стремлении к самопознанию.
Я усиленно изучал произведения Толстого. "Краткое евангелие", "Так что же нам делать?" и другие его книги произвели на меня сильное впечатление. Я все глубже понимал безграничные возможности всеобъемлющей любви.
Пожалуй, я не знаю никого, кто так лояльно относился бы к британской конституции, как я. Я понимаю теперь, что был при этом совершенно искренен. Я никогда не мог бы изображать лояльность, как и любую другую добродетель. На каждом собрании, которое я посещал в Натале, исполнялся государственный гимн. Тогда мне казалось, что и я должен принимать участие в его исполнении. Нельзя сказать, чтобы я не замечал недостатков британского управления, но в ту пору я считал, что в целом оно вполне приемлемо и даже благодетельно для управляемых.
Я полагал, что расовые предрассудки, с которыми я столкнулся в Южной Африке, явно противоречат британским традициям и что это явление временное и носит местный характер. Поэтому в лояльности по отношению к трону я соперничал с англичанами. Всюду, где представлялся случай ее выказать без шума и хвастовства, я охотно делал это.
Никогда в жизни не спекулировал я на своей лояльности, никогда не стремился добиться таким путем личной выгоды. Лояльность была для меня скорее обязательством, которое я выполнял, не рассчитывая на вознаграждение.
Прошло уже три года, как я приехал в Южную Африку. Я познакомился с живущими здесь индийцами, и они узнали меня. В 1896 году я попросил разрешения поехать на полгода домой, в Индию, так как чувствовал, что останусь в Южной Африке надолго. Я имел теперь довольно хорошую практику и убедился, что нужен людям. Поэтому я решил отправиться на родину, взять жену и детей, затем вернуться и обосноваться здесь.
Это было мое первое путешествие с женой и детьми... Я полагал тогда, что быть цивилизованным - значит возможно больше походить в одежде и манерах на европейцев. Я думал, что только таким путем можно приобрести авторитет, без которого невозможно служение общине.
Мое семейство мирилось с новшествами в одежде только потому, что иного выбора не было. Еще с большим отвращением они стали пользоваться ножами и вилками. Когда же мое увлечение этими атрибутами цивилизации прошло, вилки и ножи снова вышли из употребления. От них легко отказались даже после длительного пользования. Теперь я вижу, что мы чувствуем себя гораздо свободнее, когда не обременяем себя мишурой "цивилизации".
18 или 19 декабря пароход бросил якорь в порту Дурбан.
Прибыл доктор, осмотрел нас и назначил пятидневный карантин... На этот раз карантин был объявлен не только из соображений медицинского порядка.
Белое население Дурбана требовало отправки нас обратно на родину.
Слышались такие угрозы: "Если не поедете назад, мы вас сбросим в море. Но если вы согласитесь вернуться, то сможете даже получить обратно деньги за проезд". Я все время обходил своих товарищей-пассажиров, всячески их подбадривая.
Наконец, пассажирам и мне был предъявлен ультиматум. Нам предлагали подчиниться, если нам дорога жизнь. В своем ответе мы настаивали на нашем праве сойти в Порт-Натале и заявили о своем решении высадиться, чем бы это нам ни угрожало.
Через двадцать три дня было получено разрешение ввести пароходы в гавань и спустить пассажиров на берег.
Как только мы сошли на берег, какие-то мальчишки узнали меня и стали кричать: "Ганди! Ганди!" К ним присоединилось еще несколько человек... По мере того как мы шли дальше, толпа росла и наконец загородила нам дорогу... Меня забросали камнями, осколками кирпичей и тухлыми яйцами. Кто-то стащил с моей головы тюрбан, меня стали бить. Я почувствовал себя дурно и попытался опереться на ограду дома, чтобы перевести дух. Но это было невозможно. Меня продолжали избивать. Случайно мимо проходила жена старшего полицейского офицера, знавшая меня. Эта смелая женщина пробралась ко мне сквозь толпу, раскрыла свой зонтик, хотя никакого солнца уже не было, и стала между мною и толпой. Это остановило разъяренную толпу, меня невозможно было достать, не задев м-с Александер.
Ныне покойный м-р Чемберлен, бывший тогда министром колоний, телеграфировал правительству Наталя, предложив ему возбудить дело против лиц, участвовавших в нападении. М-р Эскомб пригласил меня к себе и сказал:
- Поверьте, я очень сожалею обо всех, даже самых незначительных оскорблениях, нанесенных вам... Если вы сможете опознать виновных, я готов арестовать их и привлечь к суду. М-р Чемберлен тоже хочет, чтобы я это сделал.
На это я ответил:
- Я не желаю возбуждать никакого дела. Вероятно, я и сумел бы опознать одного или двух виновных, но какая польза от того, что они будут наказаны? Кроме того, я считаю, что осуждать следует не тех, кто нападал на меня. Им сказали, будто я распространял в Индии неверные сведения относительно белых в Натале и оклеветал их. Они поверили этим сообщениям и не удивительно, что пришли в бешенство. Осуждать надо их руководителей и, прошу прощения, вас. Вам следовало бы должным образом направлять народ, а не верить агентству Рейтер, сообщившему, будто я позволил себе какие-то нападки. Я не собираюсь никого привлекать к суду и уверен, что когда эти люди узнают правду, то пожалеют о своем поведении.
В тот день, когда нам разрешили сойти на берег, сразу же после спуска желтого флага ко мне явился представитель газеты "Наталь адвертайзер", чтобы взять интервью. Он задал мне ряд вопросов, и своими ответами я сумел опровергнуть все выдвинутые против меня обвинения...
Это интервью и мой отказ привлечь к суду лиц, напавших на меня, произвели такое сильное впечатление, что европейцы в Дурбане устыдились своего поведения. В печати признавалась моя невиновность и осуждалось нападение толпы. Таким образом, попытка линчевать меня в конечном счете пошла на пользу мне, то есть моему делу. Этот инцидент поднял престиж индийской общины в Южной Африке и облегчил мне работу.
Моя профессиональная деятельность развивалась довольно успешно, но я не испытывал удовлетворения от этого... Мне хотелось гуманистической деятельности, и притом постоянной... Я выкроил время, чтобы служить в больнице в качестве брата милосердия. На это уходило два часа каждое утро, включая время на дорогу до больницы и обратно. Работа с больными несколько успокоила меня. Я выслушивал жалобы пациентов, докладывал о них доктору и выдавал лекарства по рецептам. Все это позволило мне ближе познакомиться с больными индийцами, которые в большинстве своем были законтрактованными рабочими - тамилами, телугу и выходцами из Северной Индии.
Приобретенный опыт сослужил мне хорошую службу во время бурской войны, когда я предложил свои услуги по уходу за больными и ранеными солдатами.
Рождение последнего ребенка было для меня серьезным испытанием. Роды начались неожиданно. Сразу же привести врача не удалось, некоторое время ушло на поиски акушерки. Но если бы даже ее застали дома, то и тогда она не поспела бы к родам. На мою долю выпало следить за благополучным появлением ребенка на свет.
Я убежден, что для правильного воспитания детей родители должны обладать общими познаниями по уходу за ними. На каждом шагу я ощущал пользу, которую принесло мне тщательное изучение этого вопроса. Мои дети не были бы такими здоровыми, если бы я не изучил это дело и не применял приобретенные знания на практике. Мы страдаем от своего рода предрассудка, будто ребенку нечему учиться в течение первых пяти лет его жизни. Между тем в действительности происходит как раз наоборот - ребенок никогда уже не научится тому, что он приобретает в первые пять лет жизни. Воспитание детей начинается с зачатия.
Супруги, отдающие себе в этом отчет, никогда не вступят в половую связь только для удовлетворения своей похоти, а лишь из желания иметь потомство. Думать, что половой акт - самостоятельная функция, в такой же степени необходимая, как сон и еда, по-моему, есть величайшее невежество. Существование мира зависит от акта рождения, а поскольку мир является ареной деятельности бога и отражением его славы, рождаемость должна контролироваться для надлежащего развития мира. Тот, кто отдает себе в этом отчет, сумеет сдержать свое вожделение во что бы то ни стало, вооружится знаниями, необходимыми для обеспечения своим потомкам физического, духовного и морального здоровья, и передаст эти знания потомству.
В 1906 году после всестороннего обсуждения и обдумывания я дал обет брахмачарии... До этого я не делился своими мыслями с женой и посоветовался с ней только тогда, когда уже давал обет. Она не возражала. Однако мне было очень трудно принять окончательное решение. Не хватало сил. Сумею ли подчинить свои чувства? Отказ мужа от половых сношений с женой казался тогда странным. Но я решился предпринять этот шаг, веря в укрепляющую силу бога.
Оглядываясь назад на те двадцать лет, которые прошли с того времени, как я дал обет, я испытываю удовольствие и изумление. Начиная с 1901 года, мне удавалось с большим или меньшим успехом проводить в жизнь воздержание. Но чувства свободы и радости, появившегося после того, как я дал обет, я никогда не испытывал до 1906 года. До этого я постоянно опасался победы соблазна. Теперь обет стал верной защитой от него.
Не подумайте, однако, что соблюдение обета, хотя оно и приносило все больше радости, давалось мне легко. Даже теперь, когда мне уже 56 лет, я чувствую, как это трудно. Все более убеждаюсь, что соблюдение обета напоминает хождение по острию ножа, и ежеминутно чувствую, как необходимо быть вечно бдительным.
Контроль над своими вкусовыми ощущениями - главное условие при соблюдении обета брахмачарии. Я убедился в том, что полный контроль над вкусом чрезвычайно облегчает соблюдение обета, и стал проводить свои диетические опыты не только как вегетарианец, но и как брахмачари.
Я стал вести спокойную и удобную жизнь, но продолжалось это недолго. Дом мой был обставлен уютно, но не прельщал меня. Вскоре я опять стал сокращать свои расходы. Счета из прачечной были огромными, а поскольку прачка не отличалась пунктуальностью, мне не хватало даже двух-трех дюжин рубашек и воротничков. Воротнички приходилось менять ежедневно, а рубашки по крайней мере через день. Все это было связано с расходами, которые показались мне излишними, и в целях экономии я обзавелся принадлежностями для стирки белья. Я купил руководство по стирке, изучил искусство стирки сам и обучил ему жену. Работы, конечно, мне прибавилось, но новизна этого занятия делала его приятным.
Никогда не забуду первого выстиранного мною воротничка. Я накрахмалил его больше, чем полагается, и из опасения сжечь лишь слегка прикасался к нему чуть нагретым утюгом. Воротничок оказался довольно жестким, а лишний крахмал все время осыпался. Я отправился в суд, надев этот воротничок, что вызвало смех моих коллег- адвокатов. Но уже тогда я умел не обращать внимания на насмешки.
Я освободился не только от ига прачечной, но достиг также независимости и от парикмахера. Люди, побывавшие в Англии, нередко научаются там бриться самостоятельно, но никто, насколько мне известно, не научился стричь себе волосы. Мне пришлось освоить и это. Однажды я зашел к английскому парикмахеру в Претории. Он с презрением отказался подстричь меня. Я почувствовал себя обиженным, однако немедленно купил ножницы и остриг волосы перед зеркалом. Стрижка передней части головы более или менее удалась, но затылок я испортил. Друзья в суде покатывались со смеху.
- Что с вашими волосами, Ганди? Не обгрызли ли их крысы?
- Нет, белый парикмахер не снизошел до того, чтобы прикоснуться к моим черным волосам,- ответил я,- и я предпочел сам подстричь их, как бы плохо это у меня ни получилось.
Ответ мой не удивил друзей.
Парикмахер был тут ни при чем. Обслуживая черных, он рисковал потерять свою клиентуру.
Когда война была объявлена*, мои личные симпатии были целиком на стороне буров. Но тогда я полагал, что в таких случаях не имею права высказывать свое сугубо личное отношение. Я подробно описал пережитую мною внутреннюю борьбу в книге по истории сатьяграхи** в Южной Африке и теперь не хочу повторяться. Интересующихся отсылаю к этой книге. Достаточно сказать, что моя лояльность по отношению к английскому правительству побудила меня принять участие в войне на стороне англичан. Я считал, что если требую прав как британский гражданин, то обязан, как таковой, участвовать в защите Британской империи. Я полагал тогда, что Индия может стать независимой только в рамках Британской империи и при ее содействии. Поэтому я собрал как можно больше товарищей и с большим трудом добился, чтобы нас приняли в армию санитарами.
* (Когда война была объявлена...- Речь идет об англобурской войне 1899-1902 гг.)
** (Сатьяграха (букв, "приятие истины") - термин, введенный Ганди и его последователями для обозначения используемых им ненасильственных методов политической борьбы.)
Человек и его поступок - вещи разные. В то время как хороший поступок заслуживает одобрения, а дурной - осуждения, человек, независимо от того, хороший или дурной поступок он совершил, всегда достоин либо уважения, либо сострадания, смотря по обстоятельствам. "Возненавидеть грех, но не грешника" - правило, которое редко осуществляется на деле, хотя всем понятно. Вот почему яд ненависти растекается по всему миру.
Ахимса - основа для поисков истины. Каждый день я имею возможность убеждаться, что поиски эти тщетны, если они не строятся на ахимсе. Вполне допустимо осуждать систему и бороться против нее, но осуждать ее автора и бороться против него - все равно что осуждать себя и бороться против самого себя. Ибо все мы из одного теста сделаны, все мы дети одного творца, и божественные силы в нас безграничны. Третировать человеческое существо - значит третировать эти божественные силы и тем самым причинять зло не только этому существу, но и всему миру... Для меня всегда было загадкой, как могут люди считать для себя почетным унижение ближнего.
События в моей жизни развивались таким образом, что я сталкивался с людьми различных вероисповеданий и различного общественного положения. Я всегда относился одинаково к своим родным и посторонним, соотечественникам и иностранцам, белым и цветным, индусам и индийцам других религий, будь то мусульмане, парсы, христиане или иудеи. С уверенностью могу сказать, что сердце мое было неспособно воспринимать их по-разному.
Я не считаю себя знатоком санскрита. Я прочел Веды и Упанишады в переводах. Естественно, я не могу претендовать на их научное толкование. Моим познаниям недостает глубины, но я вникал в них, как подобает индусу, и с полным правом заявляю, что постиг их истинный дух. К двадцати одному году я изучил и другие религии.
Было время, когда я колебался между индуизмом и христианством. Но, обретя душевное равновесие, я понял, что найду спасение лишь в индуизме. Моя вера в индуизм окрепла и обогатилась новыми знаниями.
Но и тогда я сознавал, что неприкасаемость никак не связана с индуизмом, а если бы между ними была какая-нибудь связь, я бы отказался от такого индуизма.
Сейчас я более ясно сознаю, почему обычно автобиографии неравноценны истории (когда-то давно я читал об этом). Я сознательно не рассказываю в этой книге обо всем, что помню. Кто может сказать, о чем надо рассказать и о чем следует умолчать в интересах истины? Какую ценность для суда представили бы мои недостаточные, ex parte* показания о событиях моей жизни? Любой дилетант, подвергший меня перекрестному допросу, вероятно, смог бы пролить гораздо больше света на уже описанные мною события, а если бы допросом занялся враждебный мне критик, то он мог бы даже польстить себе тем, что выявил бы "беспочвенность многих моих притязаний".
* (Односторонний, предубежденный (лат.).)
Поэтому в данный момент я раздумываю, не следует ли прекратить дальнейшую работу над этой книгой. Но до тех пор, пока внутренний голос не запретит мне, я буду писать. Я следую мудрому правилу: однажды начатое дело нельзя бросить, если только оно не окажется нравственно вредным.
В газетах появилось сообщение, что в Натале вспыхнул "мятеж" зулусов*. У меня никогда не было враждебного чувства к зулусам: никакого зла они индийцам не причинили. Сомнения же относительно самого "мятежа" у меня были. Но тогда я верил, что Британская империя существует на благо всему миру. Искренняя лояльность не позволяла мне даже пожелать чего-либо дурного империи. Поэтому причины "мятежа" не могли повлиять на мое решение. В Натале находились добровольческие воинские соединения, ряды которых могли пополнить все желающие.. Я прочел, что эти войска уже мобилизованы для подавления "мятежа".
* ("Мятеж" зулусов - антиколонизаторское восстание племен зулусов в английской колонии Натале (Южная Африка).)
Считая себя гражданином Наталя, поскольку был тесно с ним связан, я написал губернатору о своей готовности сформировать, если нужно, индийский санитарный отряд. Губернатор тотчас прислал мне утвердительный ответ.
Зулусский "мятеж" обогатил меня новым жизненным опытом и дал много пищи для размышлений. Бурская война раскрыла для меня ужасы войны далеко не так живо, как "мятеж". Это, собственно, была не война, а охота за людьми, таково было не только мое мнение, но и мнение многих англичан, с которыми мне приходилось разговаривать. Слышать каждое утро, как в деревушках, населенных ни в чем не повинными людьми, трещали, как хлопушки, солдатские винтовки, и жить в этой обстановке было тяжким испытанием. Но я преодолел это мучительное чувство лишь благодаря тому, что работа моего отряда состояла только в уходе за ранеными зулусами. Я ясно видел, что не будь нас, о зулусах никто бы не позаботился. Таким образом, в этой работе я находил успокоение.
Ферма росла, и нужно было как-то наладить обучение детей. Среди них были мальчики - индусы, мусульмане, парсы и христиане - и несколько девочек-индусок.
На ферме Толстого* установилось правило - не требовать от ученика того, чего не делает учитель, и поэтому, когда детей просили выполнить какую-нибудь работу, с ними заодно всегда работал учитель. Поэтому дети учились всему с удовольствием.
* (Ферма Толстого - названная в честь Л. Н. Толстого и основанная Ганди недалеко от Иоганнесбурга община. Ганди считал себя последователем Л. Н. Толстого и вел с ним переписку. Организация фермы происходила в период особенного увлечения Ганди морально-этическим учением Толстого.)
Я никогда не испытывал потребности в учебниках. Не помню, чтобы я извлек много пользы из книг, находившихся в моем распоряжении. Я считал бесполезным обременять детей большим числом книг и всегда понимал, что настоящим учебником для ученика является его учитель. Я сам помню очень мало из того, чему мои учителя учили меня с помощью книг, но до сих пор свежи в памяти вещи, которым они научили меня помимо учебников.
Дети усваивают на слух гораздо больше и с меньшим трудом, чем зрительно. Не помню, чтобы мы с мальчиками прочли хоть одну книгу от корки до корки. Но я рассказывал им то, что сам усвоил из различных книг, и мне кажется, что они до сих пор не забыли этого. Дети с трудом вспоминали то, что они заучивали из книг, но услышанное от меня могли повторить легко. Чтение было для них заданием, а мои рассказы, если мне удавалось сделать их интересными,- удовольствием. А по вопросам, которые они мне задавали после моих рассказов, я судил об их способности воспринимать.
Подобно тому как для физического воспитания необходимы физические упражнения, а для умственного - упражнения ума, воспитание духа возможно только путем упражнений духа. А выбор этих упражнений целиком зависит от образа жизни и характера учителя. Учитель должен быть всегда безупречен, независимо от того, находится ли он среди своих учеников или нет.
Будь я лжецом, все мои попытки научить мальчиков говорить правду потерпели бы крах. Трусливый учитель никогда не сделает своих учеников храбрыми, а человек, чуждый самоограничения, никогда не научит учеников ценить благотворность самоограничения. Я понял, что всегда должен быть наглядным примером для мальчиков и девочек, живущих вместе со мной. Таким образом, они стали моими учителями, и я понял, что обязан быть добропорядочным и честным хотя бы ради них. Мне кажется, что растущая моя самодисциплина и ограничения, которые я налагал на себя на ферме Толстого, были большей частью результатом воздействия на меня моих подопечных.
Один из юношей был крайне несдержан, непослушен, лжив и задирист. Однажды он разошелся сверх всякой меры. Я был весьма раздражен. Я никогда не наказывал учеников, но на этот раз сильно рассердился. Я пытался как-то урезонить его. Но он не слушался и даже пытался мне перечить. В конце концов, схватив попавшуюся мне под руку линейку, я ударил его по руке. Я весь дрожал, когда бил его. Он заметил это. Для всех детей такое мое поведение было совершенно необычным. Юноша заплакал и стал просить прощения. Но плакал он не от боли; он мог бы, если бы захотел, отплатить мне тем же (это был коренастый семнадцатилетний юноша); но он понял, как я страдаю от того, что пришлось прибегнуть к насилию. После этого случая мальчик никогда больше не смел ослушаться меня. Но я до сих пор раскаиваюсь, что прибег к насилию. Боюсь, что в тот день я раскрыл перед ним не свой дух, а грубые животные инстинкты.
Я всегда был противником телесных наказаний. Помню только единственный случай, когда побил одного из своих сыновей. Поэтому до сего дня не могу решить, был ли я прав, ударив того юношу линейкой. Вероятно, нет, так как это действие было продиктовано гневом и желанием наказать. Если бы в этом поступке выразилось только мое страдание, я считал бы его оправданным. Но в данном случае побудительные мотивы были не только эти.
Мальчики и после часто совершали проступки, но я никогда не прибегал к телесным наказаниям. Таким образом воспитывая детей, живших со мной, я все больше постигал силу духа.
Я часто ездил из Феникса* в Иоганнесбург. Однажды, когда я был в Иоганнесбурге, мне сообщили о моральном падении двух обитателей ашрама**. Известие о поражении или победе движения сатьяграхи не очень удивило бы меня, но эта новость поразила как громом. В тот же день я выехал поездом в Феникс.
* (Феникс - небольшая ферма близ Дурбана в Южной Африке, приобретенная Ганди и его исследователями. Там была организована община, члены которой жили за счет собственного физического труда.)
** (Ашрам - слово, имеющее три значения: 1) обитель какого-либо мудреца; 2) стадия жизни у индусов; 3) поместье, хозяйство. Здесь: созданная Ганди трудовая община на ферме в Фениксе (Южная Африка).)
Когда я ехал в Феникс, мне казалось, что я знал, как следует поступить в этом случае. Я думал, что воспитатель или учитель несет всю ответственность за падение своего воспитанника или ученика. Так что мне стало ясно, что я несу ответственность за это происшествие. Жена уже предупреждала меня однажды относительно этого, но, будучи по натуре доверчив, я не обратил внимания на ее предостережение. Я чувствовал, что единственный путь заставить виновных понять мое страдание и глубину их падения - это наложить на себя какое-нибудь покаяние. И я решил поститься семь дней, а на протяжении четырех с половиной месяцев принимать пищу только раз в день.
Мое покаяние огорчило всех, но в то же время значительно оздоровило атмосферу. Каждый понял, как ужасно совершить грех, и узы, связывавшие меня с детьми, стали еще крепче и искреннее.
...В своих профессиональных делах я никогда не прибегал ко лжи; юридическую же практику старался подчинить интересам общественной деятельности, за которую не требовал никакого вознаграждения, кроме возмещения своих собственных расходов, да и эти расходы мне подчас приходилось возмещать из своего кармана. Я считал, что, сказав это, я рассказал все, что было необходимо, о своей юридической практике. Но друзья хотят от меня большего. Они, по-видимому, считают, что если бы я описал, пусть даже в самых общих чертах, некоторые случаи, когда я отказывался уклоняться от истины, то это принесло бы пользу юристам.
Будучи студентом, я не раз слышал, что профессия юриста - это профессия лжеца. Однако это не оказало на меня ни малейшего влияния, поскольку у меня не было намерения с помощью лжи добиваться положения или денег.
Мой принцип много раз подвергался испытаниям в Южной Африке. Часто я знал, что мои оппоненты подговаривают своих свидетелей и что стоит мне лишь посоветовать клиенту или его свидетелю солгать - и мы выиграем дело. Но я всегда противился такому искушению, Помню только один случай, когда, выиграв дело, я заподозрил, что клиент обманул меня. В глубине души я всегда желал выиграть только в том случае, если дело клиента было правое. Не припомню, чтобы, определяя свой гонорар, я обусловливал его выигрышем дела. Проигрывал или выигрывал клиент, я ожидал получить не больше и не меньше обычного.
Я предупреждал каждого клиента, что не возьмусь за неправое дело и не стану запутывать свидетелей. В результате я создал себе такую репутацию, что ко мне не попадало ни одного неправого дела. Некоторые клиенты поручали мне свои справедливые дела, сомнительные же передавали кому-нибудь другому.
Я никогда не скрывал своего незнания от клиентов или коллег. Если же я оказывался в тупике, то советовал клиенту обратиться к другому адвокату или же, если он предпочитал все-таки иметь дело со мной, просил у него разрешения обратиться за помощью к более опытному юристу. Такая откровенность обеспечила мне безграничное доверие и симпатии клиентов. Они всегда соглашались уплатить, когда требовалась консультация более опытного юриста. Все это сослужило мне хорошую службу в моей общественной деятельности.
По окончании движения сатьяграхи, в 1914 году, я получил от Гокхале* указание вернуться на родину, заехав предварительно в Лондон.
* (Гокхале, Гопал Кришна (1866-1915) - преподаватель истории и политической экономии в Пуне, один из основателей и руководителей Индийского национального конгресса, председательствовал на его сессии в Бенаресе в 1905 г., член Законодательного совета Бомбея, член Исполнительного совета при вице-короле Индии, основатель общества "Слуги Индии".)
Война была объявлена четвертого августа*. В Лондон мы прибыли шестого.
* (Война была объявлена четвертого августа.- Речь идет о первой мировой войне 1914-1918 гг.)
Я считал, что индийцы, живущие в Англии, должны принять участие в войне. Английские студенты поступали Добровольцами в армию, и индийцы могли сделать то же. Против этого было выдвинуто немало возражений. Утверждали, что между положением индийцев и положением англичан - целая пропасть. Мы - рабы, а они - хозяева. Как может раб помогать хозяину, если последний очутился в беде? Разве не долг раба, стремящегося к освобождению, использовать затруднения хозяина? Эти доводы в то время не подействовали на меня. Я понимал различие в положении индийцев и англичан, но не считал, что мы низведены до положения рабов. Мне казалось тогда, что дело не в британской системе, а в отдельных британских чиновниках, и что мы можем перевоспитать их своей любовью. Если мы можем улучшить свое положение благодаря помощи англичан и их сотрудничеству с нами, то наш долг стоять с ними плечом к плечу в годину тяжелых испытаний и тем самым привлечь их на свою сторону. Хотя я понимал, что британская система несовершенна, я все же не считал ее нетерпимой, как считаю теперь. Но если, потеряв веру в эту систему, я отказался теперь сотрудничать с британским правительством, то как могли мои друзья, которые уже тогда потеряли веру и в систему и в ее представителей, сотрудничать с британским правительством?
Друзья возражали мне, полагая, что наступило время для решительного провозглашения требований индийцев и улучшения их положения.
Я же считал, что не нужно пользоваться в интересах Индии затруднениями Англии, что достойнее и разумнее не выдвигать требований, пока англичане воюют. Поэтому я настаивал на этой точке зрения и призвал желающих записываться добровольцами.
Все мы признавали, что война безнравственна. Уж если я не хотел преследовать по суду нападавшего на меня, то еще меньше мне хотелось принимать участие в войне, тем более что я не знал, которая из воюющих сторон права и на чьей стороне справедливость. Друзья, конечно, знали, что во время бурской войны я служил в армии на стороне Англии, но они полагали, что взгляды мои с тех пор изменились.
В действительности же мотивы, которые побудили меня участвовать в бурской войне, оказались решающими и теперь. Для меня было совершенно ясно, что участие в войне несовместимо с принципом ахимсы. Но человеку не всегда дано с одинаковой ясностью представлять себе свой долг. Приверженец истины часто вынужден двигаться ощупью.
Ахимса - всеобъемлющий принцип. Все мы - слабые смертные, пребывающие в пламени химсы. Пословица, гласящая, что живое живет за счет живого, таит в себе глубокий смысл. Человек не живет ни минуты без того чтобы сознательно или бессознательно не совершать внешней химсы. Уже сам факт, что он живет - ест, пьет и двигается,- неизбежно влечет за собой химсу, то есть разрушение жизни, пусть даже самое незначительное. Поэтому приверженец ахимсы будет преданным своей вере лишь в том случае, если в основе всех его поступков лежит сострадание, если он старается избежать уничтожения даже мельчайших существ, пытается спасти их и таким образом постоянно стремится высвободиться из смертельных тисков химсы. Он будет становиться все воздержаннее, сострадательнее, хотя никогда полностью не освободится от внешней химсы.
Далее, благодаря тому, что ахимса представляет собой единство всей жизни вообще, ошибка, совершенная одним человеком, не может не иметь последствий для всех, а это значит, человек не может полностью освободиться от химсы. Пока он член общества, он не может не участвовать в химсе, которую порождает само существование общества. Когда два народа воюют, долг приверженца ахимсы заключается в том, чтобы прекратить войну. Тот, кто не может выполнить этот долг, кто не имеет силы сопротивляться войне, кто не подготовлен к этому, может принимать в ней участие и одновременно всей душой стремиться к тому, чтобы освободить от войны себя, свой народ и весь мир.
Вербуя людей для санитарной службы в Южной Америке и Англии и рекрутов для действующей армии в Индии, я ратовал не за войну,- я оказывал содействие общественному институту, именуемому Британской империей, в чью благую в конечном счете природу верил в то время. Мое отвращение к войне было тогда столь же сильным, как и сейчас, и я ни за что не взял бы в руки ружье. Но человеческая жизнь - не прямая линия, это переплетение моральных обязательств, зачастую весьма противоречивых. И человеку приходится постоянно выбирать между тем или иным обязательством. Как гражданин и реформатор, призывающий покончить с войной, я не должен был агитировать и вербовать сторонников войны, уклонявшихся от вербовки из-за трусости, других низменных побуждений, либо из-за ненависти к британскому правительству. Но я твердо заявил, что им, сторонникам войны, говорящим о своей верности британской конституции, следует подкрепить свои слова делом - вступлением в армию... Я не одобряю мщения, но четыре года тому назад, не колеблясь, обвинил сельчан, живущих близ Беттии, в трусости за то, что, не будучи приверженцами ахимсы, они не сумели с оружием в руках защитить честь своих женщин и свою собственность. И совсем недавно я убеждал индусов, что, не веруя в полную ахимсу и не следуя ей в своей жизни, они совершают тяжкий грех против религии и человечности, если с оружием в руках не защищают женщин от преступника, повадившегося их похищать. И я полагаю, что все эти наставления и мои прежние действия не только не расходятся с моей проповедью полной ахимсы, но непосредственно проистекают из нее. Проповедовать это благородное учение просто, постичь его и претворять в жизнь в мире, полном борьбы, смятения и страстей,- вот цель, трудность которой я осознаю все глубже. Но с каждым днем во мне крепнет убеждение, что без этой цели жизнь ничего не стоит.
Мне нет оправдания, если судить о моем поведении, лишь исходя из принципа ахимсы: я не вижу разницы между солдатами со смертоносным оружием в руках и санитарами Красного Креста. И те и другие участвуют в войне и служат ее делу. И те и другие виноваты в преступлении - войне. Но, анализируя события тех лет, я понимаю, что обстоятельства вынудили меня действовать таким образом во время англо-бурской войны, первой мировой и так называемого "мятежа" зулусов в Натале в 1906 году.
Многие силы направляют человеческую жизнь. Она была бы безмятежным плаванием, если б ее курс определялся каким-то общим принципом, пригодным на все случаи жизни, избавляющим человека даже от мимолетных сомнений. Но я не припомню ни одного своего поступка, на который было бы легко решиться.
Будучи убежденным противником войны, я никогда не учился пользоваться оружием уничтожения, несмотря на часто предоставлявшуюся мне возможность. Вероятно, поэтому я избежал участия в уничтожении людей. Но коль скоро я жил под властью правительства, опиравшегося на военную мощь и добровольно пользовался созданными для меня льготами и привилегиями, я был обязан помочь этому правительству в меру моих возможностей, когда оно приняло участие в войне; лишь несотрудничество и полный отказ от предложенных мне привилегий могли бы избавить меня от этого шага.
Приведу пример. Я - член общины, владеющей несколькими акрами земли; наш урожай постоянно находится под угрозой из-за набегов обезьян. Я верю в святость жизни и полагаю, что ранить обезьяну - значит нарушить ахимсу. Но я без малейших угрызений совести призываю других и сам участвую в избиении обезьян, чтоб спасти урожай. Мне хотелось бы избежать этого зла. Я могу избежать его, подорвав у людей веру в общину либо добровольно покинув ее. Я не делаю этого потому, что не найду другого сообщества людей, где бы не занимались сельским хозяйством и, следовательно, не губили бы чьих-то жизней. И я, дрожа от страха, покорный своей доле, исполненный раскаяния, тем не менее участвую в избиении обезьян, уповая в душе, что когда-нибудь найду другой выход.
Таким же образом я участвовал в трех войнах. Я не мог - это было бы безумием с моей стороны - порвать все связи с обществом, в котором я жил. И в этих трех случаях я не думал о несотрудничестве с британским правительством. Теперь моя позиция по отношению к правительству в корне изменилась. Я никогда добровольно не приму участия в войнах, которые оно ведет, и меня скорей посадят за решетку или вздернут на виселице, чем заставят взять в руки оружие либо каким-то другим образом принять участие в военных действиях.
И все же это не решает проблему. Будь у нас свое национальное правительство, я не принял бы прямого участия в любой войне, но, возможно, порой считал бы своим долгом голосовать за военную подготовку тех, кто хочет ее пройти. Ведь я сознаю, что не все члены правительства уверовали бы в ненасилие так же страстно, как я. Невозможно силой сделать человека или какое-либо общество сторонниками ненасилия.
Ненасилие проявляется самым неожиданным образом. Порой действия человека непостижимы с точки зрения ненасилия, столь же часто его поступки могут внешне казаться насилием, в то время как он сторонник ненасилия в самом высоком смысле этого слова и действует сообразно своим убеждениям. Что я могу сказать о своем поведении? В приведенных выше примерах я исходил из принципов ненасилия. Я против того, чтоб чьи-то национальные либо иные интересы поощрялись в ущерб интересам других людей.
Вероятно, не стоит приводить больше аргументов. Самые лучшие слова не в силах выразить мысль во всей ее полноте. Для меня ненасилие - не просто философская категория, это закон и суть моей жизни. Я знаю, что часто проявляю слабость, иногда сознательно, чаще - бессознательно. Ахимса постигается не разумом, а душой. Истинное постижение приходит, когда постоянно, смиренно, с полным самоотречением уповаешь на бога, когда проявляешь полную готовность пожертвовать собой. И чтобы воплотить ахимсу в жизнь, надо обладать бесстрашием и мужеством высшего порядка. Я мучительно сознаю ограниченность своих возможностей.
Но Свет во мне неугасим и ярок. Всех нас может снасти лишь правда и ненасилие. Я понимаю, что война - зло, абсолютное зло. Я знаю, что войнам надо положить конец. Я твердо верю в то, что свобода, завоеванная кровопролитием и обманом,- не свобода. Пусть все, что мне вменяют в вину, сочтут не заслуживающим оправдания, я не сделаю ничего, что компрометировало бы идею ненасилия, не дам повода думать, будто когда-нибудь защищал насилие и неправду в любой форме. Не насилие и ложь, а ненасилие и Правда - закон нашего бытия.

© India-History.ru, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://india-history.ru/ "История и культура Индии"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://india-history.ru/ "История и культура Индии"