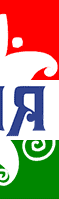Лекция IV
В Центральной Индии были найдены остатки замечательного сооружения, принадлежавшего буддистам, по-видимому, в III в. до н. э. Сооружение это, представлявшее собой как бы опрокинутое на землю полушарие, носило техническое название "ступа" и было окружено каменной оградой; ступа и ограда были покрыты многочисленными рельефами, из которых многие в медальонах. В середине одного из этих медальонов мы видим такое изображение: сидит царь, вокруг него несколько человек свиты. На первом плане изображена стоящая знатная женщина, опирающаяся на служанку и указывающая пальцем на находящиеся перед нею три корзины, с которых сняты крышки; в корзинах видны головы запрятанных в них людей, четвертую корзину, еще закрытую, несет какой-то человек. Над медальоном надпись, что это изображение к джатаке, т. е. рассказу об одном из перерождений Будды [по имени...].
Такого названия джатаки известно не было, и только прекрасное знакомство русского ученого с громадным не изданным еще при открытии рельефа сборником джатак позволило ему правильно определить сюжет рельефа: русский ученый И. П. Минаев был известный знаток буддизма*. Сюжет рельефа и есть древнейшая пока известная форма нашего фабло, относящаяся, по-видимому, ко времени, отстоящему примерно на полторы тысячи лет от французского рассказа. Нам известно 15 восточных версий, указывающих на популярность его на Востоке. Не занимаясь в этих чтениях историей сюжетов, а лишь установлением связующих звеньев между определенными сюжетами на Востоке и Западе, я не стану ни перечислять всех этих версий, ни устанавливать их взаимоотношения, а привлеку из них лишь некоторые, нужные мне для составления цепи перехода.
* (Автор имеет в виду работу И. П. Минаева (1840-1890), основателя русской школы индологии, профессора Петербургского университета, учителя С. Ф. Ольденбурга, посвященную анализу рельефов Бхархутской ступы (см.: Минаев И. П. Буддизм. Исследования и материалы. Т. I. СПб., 1887).)
Прежде всего я изложу старейшую версию - буддийскую джатаку, иллюстрированную в рельефе III в. до н. э. Необходимо отметить, что этими тремя восточными версиями мы и ограничимся для нашего рассуждения, так как особенно после материала, данного нам Lai d'Aristote и Aubere и их источниками, ясно, что наличность звеньев - Индия, Сасанидская Персия, арабы, Европа - достаточна для того, чтобы создать большое вероятие связи западной формы с восточными в этой цепи. Остальные пока известные версии (две - книжных арабских, две - книжных персидских, одна - книжная турецкая, три - новоиндийских устной передачи и такие же устные рассказы афганский, новоарамейский и две - арабских), которыми, вероятно, далеко еще не исчерпывается число существующих восточных версий, интересны для нас лишь как показатель распространенности сюжета на Востоке; с этой точки зрения чрезвычайно оригинально в смысле истории и исследования звучат слова г-на Бедье и по отношению к нашему фабло, в восточном происхождении которого он сомневается, когда, упоминая об единственной, ему известной более новой арабской версии "1001 ночи", он говорит: "...il est permis aussi de considerer les fabliaux, comme des oeuvres non pas adoptives, mais exclusivement francais"*. Последняя фраза вряд ли допустима в научном труде.
* ("...позволено также рассматривать фабло как произведения не заимствованные, но чисто французские".)
Нашему рассказу мы правильнее всего могли бы дать заглавие: о женщине, пригласившей одновременно нескольких мужчин, увлеченных ею, и надсмеявшейся над ними. Он встречается в нескольких разновидностях в зависимости от того, имеем ли мы дело с замужней женщиной или вдовой, с честной или с легкомысленной женщиной, действует ли и муж или же отсутствует. Но, в общем, главный, решающий эпизод во всех почти версиях очень близок в изложении: одновременное заключение мужчин в ящик или ящики, корзины, бочку.
Зная текст джатаки, мы свободно можем истолковать изображенную на рельефе сцену. На престоле сидит царь, перед ним Амарадеви, жена мудреца Махосадхи, в корзинах - царские советники, которые хотели погубить мудреца и которых перехитрила жена его Амарадеви. Таким образом, в этой древнейшей версии видим, что преступные советники царя были заключены в четыре отдельных вместилища - корзины - и что перехитрившая их женщина обратилась к суду царя. О том, сама ли она их заманила или они пытались ее соблазнить, что именно было поводом к употреблению хитрости и как были наказаны преступники, мы ничего не узнаем из рельефа. Можно только сделать предположение, что версия джатаки, которую иллюстрировал наш рельеф, была в общем близка к известной нам палийской* версии джатаки. При этом мы хотели бы, однако, заметить, что в этой версии джатаки наш эпизод занимал более выдающееся место, чем в палийской джатаке, и был изложен подробнее: иначе трудно себе представить, почему художник именно этот эпизод выбрал для своего изображения.
* (Пали - язык, на котором были записаны произведения буддийского канона (так называемая "Типитака").)
Из выбранных нами для установления преемственной цепи рассказов индийские опять принадлежат к числу рассказов, входящих в целые циклы, причем небесполезно отметить, что мы здесь, как и по отношению к теме Lai d'Aristote, сталкиваемся с циклом царя Нанды и его советника Вараручи.
"Знаменитый грамматик, советник царя Нанды Вараручи отправился в Гималаи умилостивлять Шиву. Уходя, он оставил свое имущество, средства, нужные для поддержания дома, в руках купца Хираньягупты, о чем и сообщил жене своей Упакоше. Упакоша пребывала в своем доме и только совершала ежедневно омовения в Ганге. В один весенний день, когда она шла к реке, ее увидали царский жрец, глава полиции и царский советник и воспламенились к ней страстью. В этот день Упакоша провела много времени за омовениями и возвращалась домой уже вечером. Ее встретил царский советник, но она, сохраняя присутствие духа, назначила советнику свидание в своем доме в первую стражу ночи праздника весны, когда весь город будет в возбуждении. Советник ушел, но немного далее ее встретил царский жрец; ему она назначила прийти во вторую стражу ночи. Отпущенная царским жрецом, она попала в руки начальнику полиции и от него отделалась только назначением свидания в третью стражу ночи. Вернувшись домой, она рассказала служанкам обо всем происшедшем и о назначенных свиданиях.
На следующее утро она послала служанку к Хираньягупте за деньгами, чтобы почтить брахманов. Хираньягупта пришел к ней и сказал, что даст ей деньги, если она услышит его. Упакоша, сообразив, что у нее нет доказательств относительно передачи ее мужем денег купцу, назначила и ему свидание на последнюю стражу ночи. Тем временем она велела приготовить черной мази, четыре тряпки и большой сундук. В ночь весеннего праздника, в первую стражу, к Упакоше точно явился царский советник. Она сказала ему, что он раньше должен омыться. Служанки ввели его в темное помещение, раздели, помазали черною мазью и дали ему, чтобы покрыться, тряпку. Тем временем явился жрец, и они уговорили советника спрятаться в сундук. Последовательно и с начальником полиции сделали то же самое. Все трое лежали в сундуке, но не смели ничего сказать. Когда пришел купец, Упакоша ввела его в ту комнату, где был сундук, и спросила у него деньги, отданные ее мужем. Купец, видя, что в комнате никого нет, оказал, что уже и раньше обещал ей отдать деньги. Обращаясь к сундуку, Упакоша сказала:
- Слушайте, о боги, эти слова Хираньягупты.
Затем она велела Хираньягупте идти и совершить омовения. Его, как и других, вымазали черной краской, дали тряпку взамен снятой одежды и затем вытолкали из дому. По дороге домой его искусали собаки.
Утром Упакоша отправилась со своими служанками к царю Панде и заявила, что купец Хираньягупта не хочет отдать ей, деньги, оставленные у него ее мужем. Царь велел призвать купца, но тот отрицал передачу денег. Упакоша заявила, что у нее есть свидетели: муж ее перед уходом положил домашних богов в ящик, а купец в их присутствии признал, что деньги у него. Упакоша просила разрешения принести ящик, чтобы царь мог спросить богов о происшедшем. Ящик принесли, и Упакоша воззвала к домашним богам, приглашая их сказать, о чем говорил купец, и обещая отпустить их домой, угрожая в случае молчания сжечь их или открыть сундук. Перепуганные трое в сундуке сказали, что купец заявил о деньгах в их присутствии. Тут купец признался в своей вине. Царь просил у Упакоши позволения раскрыть сундук, и оттуда вышли те три человека, вымазанные черной мазью. Царь пожелал узнать, что это значит, и Упакоша все рассказала. Царь изгнал тогда советника, жреца и начальника полиции из своего царства и оказал великое почтение Упакоше, которая вскоре дождалась возвращения мужа".
Следующая затем версия - арабская, принадлежащая уже нам известному полигистору* IX в. Джахизу, заключена в его книге "Книга добрых качеств и их противоположений". Джахиз черпал из памятников арабской литературы, представляющих часто прямые заимствования из пехлевийской литературы, поэтому мы вправе считать рассказ у Джахиза представителем утраченного пехлевийского оригинала, ибо другие аналогичные рассказы Джахиза, несомненно, этого происхождения. Вот рассказ Джахиза.
* (Полигистор - литератор-энциклопедист.)
"Рассказывают, что ал-Хаджадж, сын Юсуфа, однажды ночью не мог заснуть и послал поэтому за Ибн-ал-Киррией и сказал ему: - Я не могу спать; поэтому расскажи мне какую-нибудь историю, которая бы сократила мне длинноту ночи, и пусть будет она и о хитростях женщин, и об их проделках.
Тот сказал:
- Да сохранит Бог эмира! Говорят, что некий муж из жителей Басры, Амр, сын Амира по имени, был известен подвижничеством и благородством. И была у него, жена по имени Джемила, и был у него друг из подвижников. И дал ему Амр тысячу динаров на хранение и сказал: "Если со мной случится несчастье и ты мою семью увидишь нуждающеюся, то отдай ей эти деньги".
Потом он прожил, сколько прожил, потом был призван и дал ответ (т. е. умер). После него Джемила прожила некоторое время; затем ее обстоятельства ухудшились, и она приказала своей невольнице продать перстень за обед дня или ужин вечера. И когда невольница предлагала перстень на продажу, ее увидел подвижник, друг Амра, и сказал:
- Такая-то?
Она оказала:
- Да.
Он сказал:
- Что тебе нужно?
Тогда она ему рассказала про несчастье и что ее барыня принуждена продать свой перстень. И наполнились его глаза слезами. Потом он сказал:
- За мной есть тысячи динаров, принадлежащих Амру. Сообщи об этом твоей барыне.
И пришла невольница, смеясь, с доброй вестью, говоря:
- Пропитание законное, имеющее быть от трудов моего господина, благородного, добродетельного.
И когда ее госпожа это услышала, она спросила ее об этом, и та рассказала. И пала Джемила ниц, прославляя Господа своего, и послала невольницу к подвижнику. И явился подвижник с деньгами и, когда вошел в дом, не захотел отдать деньги никому, кроме нее самой. И вышла она к нему, и когда он взглянул на красоту ее и совершенство ее, то она овладела всем сердцем его, и покинул его разум, и ушел от него стыд, и он начал говорить:
- Ты похитила тело мое и сердце одновременно
И изнурила кости мои твоим взглядом.
Возврати сердце томящегося от любви
И прими подарок, вдвое больший против того,
на что ты надеешься.
И потупила глаза Джемила (и молчала) долго из-за его слов. Потом она сказала:
- Горе тебе! Разве ты не тот, которого знают за подвижническую жизнь, которому приписывают воздержанность!
Он сказал:
- Да, но свет лица твоего истощил тело мое. Итак, поправь меня словом, которым ты выпрямила бы мою кривизну. И вот я стою здесь, прибегая к твоей помощи.
Она сказала:
- О лицемер, обманщик! Уходи от меня порицаемым, пристыженным.
И ушел он от нее, а сердце его пылало страстью. И стала Джемила обдумывать хитрость, чтобы получить принадлежащее ей. И пошла она к царю, чтобы ему донести об обиде, ей нанесенной. Но она не получила доступа к нему. И пошла она к хаджибу и пожаловалась ему. И понравилась она ему сильно. И сказал он:
- Право, у твоего лица такой взгляд, который я считаю выше этого, и подобная тебе не должна вести тяжбу. И не хочешь ли ты получить вдвое больше твоих денег под покровом тайны и за дружбу?
Она сказала:
- Горе свободной женщине, которая склоняется к подозрительному делу.
И пошла она к полицеймейстеру и донесла ему о нанесенной ей обиде. И понравилась она ему, и он сказал:
- Твой иск против подвижника будет признан только на основании показаний двух приведенных свидетелей. Но я куплю твой иск, если ты исполнишь мое желание.
Тогда она от него пошла к кадию и пожаловалась ему. И овладела она его сердцем, и кадий едва не сошел с ума от восхищения ею и сказал:
- О прохлада глаз! Поистине от подобных ей нельзя воздержаться. Не согласна ли ты дружить со мною и быть обеспеченной на всю жизнь?
И ушла она и провела ночь, обдумывая, как бы ей добыть то, что ей следует. И послала она невольницу к плотнику, и он сделал ей сундук с тремя дверцами; все три - отдельные. Потом она послала невольницу к хаджибу, чтобы он пришел к ней рано утром, и к полицеймейстеру, чтобы он пришел к ней утром несколько позже, и к кадию, чтобы он пришел к ней в полдень. И пришел к ней хаджиб, и она вышла к нему и начала беседовать с ним. И не успела она кончить беседу свою, как ей сказала невольница:
- Полицеймейстер у дверей.
Тогда она сказала хаджибу:
- Нет в доме другого убежища, кроме этого сундука. Войди в какое ты хочешь отделение его.
И вошел хаджиб в одно отделение сундука, и она заперла его за ним на замок. И вошел полицеймейстер, и вышла к нему Джемила и начала с ним смеяться и любезничать. И очень скоро после этого сказала невольница:
- Кадий у дверей.
Тогда сказал полицеймейстер:
- Где мне (спрятаться)?
Она сказала:
- Нет убежища, кроме как в этом сундуке; в нем есть два отделения, и войди в какое хочешь из них.
И вошел он, и она заперла его за ним на замок. И когда вошел кадий, она сказала: - Добро пожаловать,- и начала его приветствовать и с ним любезничать. И когда еще занята она была этим, сказала ей вдруг невольница:
- Подвижник у дверей.
Кадий сказал:
- Что ты придумаешь, чтобы его отправить?
Она сказала:
- Я не могу его отправить.
Он сказал:
- Что же делать?
Она сказала:
- Я тебя спрячу в этот сундук и буду с отшельником препираться. И будь ты мне свидетелем всего, что услышишь, и рассуди нас с ним по правде.
Он сказал:
- Да.
И влез он в третье отделение, и она заперла его за ним на замок.
И вошел подвижник, и она оказала ему:
- Привет посетителю греховному! Как могло тебе прийти в голову посетить нас?
Он сказал:
- От страсти лицезреть тебя и от жажды приближения к тебе.
Она сказала:
- А про деньги ты что скажешь? Призови Бога в свидетели, что ты их вернешь, и тогда я буду к твоим услугам.
Он сказал:
- О Боже, я призываю Тебя в свидетели того, что у меня есть тысяча динаров, отданных мне на хранение ее мужем.
Когда она это услышала, то позвала свою невольницу и вышла поспешно ко дворцу царя и донесла ему о нанесенной ей обиде. И послал царь за хаджибом, полицеймейстером и кадием, но никого из них не мог найти.
Тогда царь сам принял ее и спросил о ее доказательстве. И она сказала:
- В мою пользу свидетельствует сундук, находящийся у меня.
И засмеялся царь и сказал:
- Это, возможно, по причине твоей красоты.
И послал он повозку, и был положен на нее сундук и привезен (и поставлен) перед царем. И встала она и ударила рукою своею по сундуку и сказала:
- Я даю клятву перед Богом: или ты заговоришь согласно с истиной и засвидетельствуешь то, что ты слышал, или же я сожгу тебя в огне.
И вот раздались три голоса изнутри сундука, которые засвидетельствовали, что подвижник признал, что у него есть тысяча динаров, принадлежащих Джемиле. И был царь поражен этим, и Джемила сказала:
- Я не нашла во всем государстве людей честнее и справедливее этих трех и поэтому взяла их в свидетели против моего должника.
Потом она открыла сундук и выпустила тех трех человек, и расспросил ее царь об ее обстоятельствах, и она рассказала ему и получила должное ей от подвижника.
Ал-Хаджадж сказал:
- Какая она молодец и как хорошо то, что она придумала для получения должного ей".
Познакомив вас с теми восточными редакциями, которые я считал существенно важными для установления преемственных переходов, я считал бы небесполезным для характеристики тех разновидных форм переделки, какие может испытывать рассказ, и для лучшего понимания приемов, какие употребляют авторы- для своих переделок, познакомить вас еще с тремя версиями, особенно потому, что в них и основная мотивировка несколько иная. Совпадение это, вероятнее всего, случайное и ни на какую специальную связь между древнефранцузским и новоиндийским рассказом указывать не может.
В одной из более, по-видимому, новых арабских редакций известной вам "Книги о семи мудрецах" встречается наш рассказ в новой форме - здесь женщина легкомысленная и играет с ухаживателями, чтобы спасти любовника. Как ни отлична эта отправная точка, все же рассказ, как вы увидите, в общем, очень близок и к фабло по общей схеме.
"Одна женщина была замужем за человеком, который постоянно путешествовал. Однажды он отсутствовал очень долго, и жена его влюбилась в одного юношу и вступила с ним в связь. Как-то раз юноша с кем-то поссорился, на него пожаловались, и он был заключен в тюрьму по приказу начальника полиции. Тогда женщина, узнав об этом, нарядилась и отправилась с прошением к начальнику полиции, говоря, что заключенный - брат ее и обвинен по ложному доносу; она просит отпустить его, так как он дает ей средства к существованию и без него она погибнет. Начальник полиции согласился исполнить ее просьбу только при условии получить право посетить ее. Она для виду согласилась, но отказалась идти к нему в дом, а пригласила его к себе. Затем она по очереди пошла с тою же просьбою к кадию, к визирю и к царю и всюду встретила тот же прием и сама поступила одинаково, назначив всем свидания. Затем она пошла к столяру и велела ему сделать шкаф с четырьмя отделениями на замках. Столяр спросил за шкаф четыре динара, но прибавил, что если она пригласит его к себе, то он сделает шкаф даром. Она опять для виду согласилась и велела сделать шкаф с пятью отделениями на замках. Шкаф был готов и отнесен к ней в дом. Тем временем она отдала выкрасить четыре платья в разные цвета и приготовила всевозможные угощения.
Когда пришел назначенный день свидания, она разоделась и стала ждать гостей; первым пришел кадий. Они стали беседовать, но вскоре он начал решительно приставать к ней, тогда она предложила ему надеть желтое платье и платок на голову, что он и сделал. Не успел кадий переодеться, как раздался стук в дверь, и на вопрос кадия женщина сказала, что стучится ее муж. Кадий испугался, но она его успокоила и спрятала в отделение шкафа, заперев на замок. Явился начальник полиции (вали). С ним было то же, что и с кадием, но женщина еще заставила его написать записку, чтобы отпустили немедленно ее любовника; тут постучали, и вали, одетый в красное платье, был спрятан во второе отделение шкафа. Затем один вслед за другим пришли визир и царь, и с ними было поступлено так же, как с кадием и валием. Когда царь был запрятан в шкаф, явился столяр. Женщина стала бранить его, говоря, что верхнее отделение шкафа слишком узко, и велела ему полезть самому и посмотреть. Когда он исполнил это, она заперла за ним дверцу на замок. Немедленно затем она пошла за своим любовником с письмом начальника полиции; юношу выпустили, и оба они бежали из города, забрав с собою свое имущество.
Тем временем сидящим в шкафу пришлось провести в нем три дня, причем по разговору они узнали друг друга. Соседи, видя, что дом заперт и ничего в нем не слышно, вошли. Тогда сидящие в шкафу стали громко жаловаться на свое положение, но это чуть не погубило их, так как народ решил, что в шкафу духи, и собрался их сжечь. К счастью, кадий произнес стихи Корана и его узнали, после чего выпустили всех, грязных и почти раздетых, надсмеявшись над ними вдоволь".
Значительно более, но и то в развязке, разнится другой рассказ из "1001 ночи". Мы не видим грубости фабло, все происходит здесь в тоне шутки изящной и легкой.
"В Египте жила прекрасная, добродетельная женщина, жена одного эмира. Однажды она шла в баню и по дороге проходила мимо дома кадия, где столпилось много народу, и она остановилась поглазеть. На нее загляделся кадий и спросил, пришла ли она по делу, она ответила, что нет. Тогда кадий начал к ней приставать, и она назначила ему у себя свидание. Затем она пошла в баню, по дороге назад ее встретили один за другим надсмотрщик за торговлей и мясник, тоже приставали к ней, и им было назначено свидание. Дома она села на крыше расчесывать волосы, и тут ее увидел купец и послал к ней старуху. Ему она тоже назначила свидание.
Вечером первым явился кадий с подарком. Женщина приняла его, но, когда раздался стук в дверь, поскорее велела ему снять верхнее платье, надеть колпак и спрятаться в чулан. Так же она поочередно поступила с надсмотрщиком за торговлей, мясником и купцом. Купца она спрятала, когда явился ее муж, причем женщина испугала купца, сказав ему, что только накануне муж ее убил четырех человек.
Муж уселся с женою болтать и стал расспрашивать ее о том, что она видела, когда ходила в баню. Она ему сказала, что испытала четыре приключения. Спрятанные в чулане поняли, что женщина собирается их выдать, и очень смутились. На вопрос о приключениях женщина ответила, что встретила четырех шутов в (колпаках. Эмир сразу понял хитрость жены и спросил ее, почему она не привела их, чтобы позабавить мужа и себя. Она отвечала, что боялась, как бы эмир их не убил. Но эмир сказал, что он только заставил бы их поплясать и рассказать что-либо забавное. Ну а если бы они не сумели этого сделать, спросила жена, что тогда? Тогда, сказал эмир, он бы их убил. Запертые в своих чуланах с волнением и смущением слышали весь этот разговор. Наконец жена эмира сказала, что приведет шутов на следующий день, но эмир сказал, что на следующий день он будет занят службою. Тогда жена его просила позволения представить шутов сейчас. Первым она вытащила кадия. Эмир жестоко надсмеялся на ним, заставил его плясать и рассказать забавный рассказ, после чего отпустил. Так же эмир и его жена поступили с надсмотрщиком за торговлей, мясником и купцом".
Афганская версия в шутливой изящной форме читает нравоучение сильным мира сего, которые хотели обидеть честную женщину; эта версия в полной мере подтверждает славу афганцев как хороших рассказчиков. Несмотря на полную разницу деталей, она чрезвычайно близка по замыслу к фабло, показывая лишний раз, как неверны попытки схематических построений рассказов для сравнения общих и различных деталей: часто две совершенно разные фактически детали могут быть гораздо ближе друг к другу, указывая на зависимость обеих от общего типа построения рассказа, из которого они естественно вытекают.
Точно так же как часто тождественная деталь, тождественный мотив может возникнуть в двух рассказах совершенно независимо. Так, например, в одной новоиндийской версии есть деталь, чрезвычайно близкая к фабло: как в фабло ухаживатели оказываются покрыты перьями, так и в новоиндийском рассказе один ухаживатель покрыт хлопком.
Задачею четырех чтений, которые я предложил вашему вниманию, было показать, что примерно в XI-XIV вв. Восток оказал значительное влияние на средневековую повествовательную литературу Запада, что не только в это время были переведены на ряд западных языков два крупных восточных сборника рассказов, но что в проповедническую и светскую повествовательную литературу Запада Восток внес свои элементы путем устной передачи: Византия, Испания и Сицилия подготовили почву, крестовые походы и созданное ими и возникновением монашеского проповедничества и миссионерства широкое общение Запада с Востоком дало возможность проявиться восточному влиянию и в области повести; блестящий талант восточных рассказчиков, умевший создавать искусно сплетенные сюжеты и чрезвычайное их разнообразие, естественно, сделал Восток в это время источником, из которого свободно черпал Запад. Я надеюсь, что мне удалось достаточно убедительно составить это мое рассуждение.
Если это так, то я вполне понимаю, что у вас является тогда вопрос: допустим, что мы убеждены, но какое это может иметь для нас значение и зачем читающий хотел это нам доказать? Такой вопрос я считаю вполне естественным и хочу на него ответить, ибо специалист должен, мне кажется, всегда быть в состоянии ответить на то, как в его понимании специальная его работа связывается с общими вопросами знания, ибо всякая сознательная, действительно научная работа должна быть соединена с этими общими вопросами.
Я принадлежу по своей специальности к востоковедам, которые ставят себе задачею изучить и понять Восток. Мы считаем, что, только поняв надлежащим образом Восток с его громадными культурными достижениями, человечество может надлежащим образом понять себя, осознать себя, т. е. сделать то, без чего не может быть настоящей жизни человечества, ибо вне сознания нет жизни, а есть только существование. Если такова задача востоковедения, то понятно, какое, по нашему мнению, имеет значение разработка вопроса о восточных влияниях, ибо здесь мы найдем ключ к пониманию и дальнейшего возможного влияния Востока на Запад; ведь именно в момент столкновения влияния определеннее всего выявляются индивидуальные особенности отдельных культур. Я выбрал совершенно специальный и частный вопрос о восточном влиянии на повествовательную литературу Запада в XI-XIV вв., потому что именно лишь при специализации, дифференциации можно говорить о той степени точности доказательства, которая необходима, и только из ряда таких точных (в пределах, конечно, возможного, как я уже несколько раз оговаривал) частичных доказательств складываются те более широкие построения, которые выводят на широкие, общие пути знания.
Но этот специальный вопрос имеет значение не только как один из моментов восточного влияния на Запад, которое важно проследить на всем протяжении истории человечества, и даже не только как один из главных моментов этого влияния в области духовного творчества, а и особое значение в истории художественного творчества: более трезвый и более бедный фантазиен) Запад, привыкший мелочью, детально говорить многое, сумевший небольшим количеством литературных тем создать богатую, дивную греческую литературу и ее преемников, на которую и на которых Восток влиял сравнительно мало и случайно, получил внезапно толчок от богатого фантазиею Востока.
Не только материальная культура стала значительно богаче - стоит только просмотреть громадное обогащение словаря европейских народов за это время, чтобы понять, как велико это богатство восточного культурного воздействия: ведь сколько слов, которые вы с детства считаете родными, вошли в европейские языки в это время, но и духовная культура восприняла то живое, что принес с собой Восток: красоту жизни, ее яркие, вечно золотимые солнцем краски, розовую золотистость ее восходов, бесконечно глубокую синеву ее ясных дней, белизну ее огненно знойных часов, пурпуры ее закатов, обо всем этом говорил Восток новым, сильным и ярким языком, свивавшим и развивавшим в бесконечных узорах, арабесках - и это слово опять говорит вам о Востоке - бесконечные гирлянды рассказов.
Кто из вас в вашем детстве не испытал очарования этих арабских "1001 ночи", в сущности, персидских рассказов, вероятно тоже навеянных Индией, как и разобранные нами фабло. Ведь недаром, когда в XVIII в. они появились в Европе, облеченные в очаровательную французскую форму, наши предки так увлеклись ими и начали им бесконечно подражать.
Нам важно было установить это время широкого восприятия восточных повествовательных сюжетов на Западе, потому что это установление дает основу для понимания истории столь трудно уловимой в своем развитии сказки, одного из любопытнейших видов художественного творчества. Историческое направление в изучении сказки, которое делает большие успехи за последнее время, уже научило нас резко различать между первобытною сказкою некультурных народов и сказкою культурных народов, которая является определенным литературным памятником, произведением определенного, нам почти никогда не известного человека, но именно произведением индивидуального, а не так называемого массового творчества. Мы уже начинаем подходить к тому, что, как и другие роды литературы, сказки, так называемые народные сказки,- тоже произведения определенных мод, определенных времен и мест. И это существенное приобретение для нашего понимания человека, ибо оно укрепляет нас в сознании того, что в духовной жизни народа творцами являются не массы, а личности, именно те, кто у нас столь своеобразно называются интеллигенцией.
А ведь установление этого факта имеет и громадное жизненное значение: в наше время преклонения перед массою необыкновенно важно иметь широкие обоснования для правильного понимания соотношений массы и того, что принято называть интеллигенцией; когда пройдет угар, когда люди начнут опять рассуждать, чрезвычайно необходимо будет дать им в руки надежное понимание истинного значения в жизни человечества именно тех, кто теперь так пренебрежительно отодвигается на задний план, следствием чего является хаос и обеднение жизни не только материальное, но и духовное.
Казалось бы, что общего между восточными повестями, фабло XII и XIII вв. и страшной действительностью наших дней? Между тем наука улавливает эти невидимые для не вооруженных знанием глаз нити и показывает, как все в человечестве крепко и неразрывно связано теми связями преемственности, которые столь безрассудно и бесполезно стараются теперь рвать и уничтожать.
Этот вопрос о преемственности нам не пришлось подробно затронуть, но, когда мы установили связь между индийским рельефом III в. до н. з. и французским рассказом XII или XIII в., разве мы не привели разительного доказательства именно преемственности человеческого творчества? Человечество, за исключением тех редких минут его жизни, когда оно безумно и бессмысленно разрушает дела рук своих, бережно, как хороший хозяин, хранит свои достижения и передает их потомству, т. е., говоря языком современности, копит капиталы, приумножает их и приумноженными передает от поколения к поколению.
Когда мы указали на начинающее распространяться среди специалистов мнение, что и народные сказки культурных народов, произведения, возникающие в периоды и в местах, которые могут быть определены исследованием, то мы дали указание на одно из приобретений установления факта заимствования повествовательных тем с Востока на Запад, и факт этот имеет громадное значение в истории так называемых народных литератур, вводя и их в полной мере в круг исторического изучения, внося вместе с тем и новую страницу в историю. Ограниченное число литературных сюжетов вообще, которое известно тем, кто специально занимался вопросом об этих сюжетах, и внезапное их увеличение в Европе в определенное именно время - факт в высокой мере любопытный в истории человеческого творчества и особенно важный по отношению к выяснению законов этого творчества.
Мне кажется, что из только что сказанного ясно, как много нитей идет от специального вопроса, который мы рассматривали в наших чтениях, к общим широким вопросам гуманитарного знания, являясь в них новым и существенным доказательством, и что я дал в известной мере ответ на этот вопрос, который, как мне казалось, вы ставите и имели полное право поставить.
Но мне приходилось и приходится постоянно встречаться с фактом, который кажется чрезвычайно знаменательным и относительно которого приходится недоумевать. Я только что упомянул о науках гуманитарных, к которым принадлежит и сравнительная история литературы, давшая тему к предложенным вам чтениям. К наукам гуманитарным в кругу научных исследований присоединяются науки математические и науки естественноисторические. И вот, когда просто человек образованный, не ученый, видит какую-нибудь совершенно ему недоступную работу по высшей математике, заглавие которой читающему совершенно непонятно, он считает естественным и необходимым, что такая работа существует, верит как бы на слово ученому, что эту работу необходимо было сделать, эту книгу необходимо было написать. У него не возникает никаких сомнений насчет целесообразности специальной работы. Очевидно, недоступность высшей математики для неподготовленного спасает ее от подозрения в излишней "ненужной" специализации.
Более сложным делается вопрос, когда дело касается наук естественноисторических, хотя и тут мы чувствуем, что наука, более близко связанная с математикой, как физика, химия, минералогия, опять вызывает менее сомнений, науки же биологические, немного более доступные, хотя бы только по видимости, людям, не имеющим соответствующей подготовки, уже вызывают иное к себе отношение: мы слышим, например, часто недоуменные замечания особенно по адресу энтомологии:
- На что нужны эти исследования левой лапки мухи? Кому нужно знать об усиках таракана?
Но все эти сомнения ничто перед теми уже не сомнениями, а твердой уверенностью, что науки гуманитарные, суждение о которых представляется возможным каждому, полны ненужного хлама: с чувством глубочайшего презрения, как образец педантичной бессмыслицы цитируется какая-нибудь книга об употреблении той или другой частицы по-латыни или по-гречески. И говорящий убежден, что он изрекает непреложную истину, и очень удивится, если ему покажут, что его пример свидетельствует лишь об ограниченности его знаний и потому и о шаткости, и малой обоснованности утверждений, в корне которых лежит столь значительное невежество.
Мы, восточники, из представителей наук гуманитарных являемся при этом в особенно безнадежном положении: узнав, например, что перед ним восточник, собеседник с некоторым еще любопытством спрашивает:
- А, значит, вы знаете китайский?
- Нет.
- Значит, арабский?
- Очень мало.
На лице вашего собеседника явное недоумение:
- Но чем же вы, собственно, занимаетесь?
- Я санскритист.
- Неужели вам не надоедает такая узкая специальность?
А когда вы еще укажете, что и в этой узкой специальности вы имеете право считать себя по-настоящему специалистом лишь небольшого уголка, то вы чувствуете, что ваш собеседник совершенно перестает вас понимать.
Мы имеем здесь дело с любопытным, но вполне понятным явлением: неспециалисту кажется, что он понимает или знает то, о чем говорит; ему это не могло, безусловно, казаться в математике, потому что там вместо общедоступных слов непонятные неспециалисту формулы, а слова ему как будто знакомы и понятны, и вот на основании их он судит. Но это только как будто; для того чтобы судить, и здесь нужно, как и в математике, знать, ибо под знакомыми будто бы словами скрывается сложный смысл, разобраться в котором можно лишь путем долгой, самостоятельной работы. Это простая истина, но ее надо понять и усвоить, чтобы не терять времени на праздные и, в сущности, весьма вредные кривотолки.
Подвожу итог: ученый обязан сделать все от него зависящее, чтобы объяснить смысл и значение своей научной работы тем, кто пожелает это знать, и, к сожалению, ученые часто этого не только не делают, но не хотят делать, считая такие объяснения ненужными. Это их нежелание вредно отзывается на положении науки, побуждая людей, к тому не подготовленных, разбираться самостоятельно в том, в чем без руководства и знания они не могут разобраться, как и в математической формуле.
Следствием и являются необоснованные и тем более решительные суждения о бесполезности специальных работ, о необходимости для наук разрабатывать, во всяком случае в первую голову, те вопросы, решения которых всем нужны, дабы не терять драгоценные силы и время на ненужные мелочи. Тут и надлежит указать, что науки гуманитарные, кажущиеся общедоступными, потому что в них нет видимых формул, как в математике, также, по существу, полны таких формул, которые доступны лишь тем, кто на них потратит долгие годы упорного труда.
Позвольте кончить ссылкою на пример даже такого гениального человека, как Лев Николаевич Толстой, который, желая по поводу Евангелия опровергнуть толкования специалистами некоторых текстов, торжествуя, ссылается как на авторитет в споре на словарь:
- Раскрываю "Словарь" и нахожу!..
И даже этот гениальный человек не вдумался при этом в то, что такое словарь и как он составляется, что, говоря так, он делает непростительное с научной точки зрения смешение источника и пособия.
Да, надо сделать все зависящее от науки, чтобы она была близка к жизни, ибо, конечно, наука для жизни; надо сделать все возможное для того, чтобы науку, ее цели и пути ее достижений понимало как можно большее число людей, но нельзя никогда забывать, что наука не есть легкая книга для чтения, которую поймет всякий, кто только захочет. Одного желания здесь мало, здесь нужен труд, долгий, упорный, самостоятельный научный труд, и его никогда и ни в чем не может заменить популяризация: по самому существу своему наука не общедоступна, в полной мере понимание ее достижимо лишь для тех, кто согласен отдать ей свой труд и свою жизнь.

© India-History.ru, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://india-history.ru/ "История и культура Индии"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://india-history.ru/ "История и культура Индии"