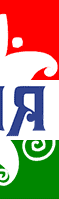Лекция II
Прошлый раз мы пытались установить, что во время между XII и XIV вв. в Западной Европе, и особенно в наиболее типичной представительнице западной культуры того времени Франции, были все данные для восприятия восточных влияний в повествовательной литературе и что вкус того времени склонялся к восточным повестям и рассказам. Все это давало право предполагать, что ряд французских литературных произведений - фабло, отличавшихся искусным соединением разнообразных мотивов и хорошо скомпанованных сюжетов, носят признаки восточного происхождения. Мы закончили наше чтение пересказом одного из этих фабло (об Александре), имея в виду сегодня указать, какими путями можно установить, что сюжет этот перешел во Францию с Востока.
Прежде чем перейти к фактической стороне дела, я считаю необходимым сказать несколько слов о тех приемах, которыми я намерен пользоваться, чтобы дать возможность следить за тем, как я веду свое исследование и нет ли в нем недочетов или пропусков. Чем менее научный работник может быть догматичен, чем более он может раскрывать ход своей работы и своей научной мысли, тем более, мне кажется, убедительны его рассуждения, если они правильны, и тем легче, мне кажется, с другой стороны, обнаружить неправильности его доказательства. Необходимо, в пределах доступного, вводить слушающего в лабораторию работы, не лишать его возможности непрерывной критики тех доказательств и утверждений, которые представляет ему излагающий исследование.
Когда приходится сравнивать литературные произведения, чтобы выяснить их взаимоотношения, то мы видим большую разницу между памятниками письменными и устными. Два родственных по сюжету письменных памятника обыкновенно гораздо ближе между собой, нам гораздо легче установить зависимость одного из них от другого, ибо на помощь нам являются определенные выражения, определенные слова, которые мы находим в обоих памятниках, причем трудно предположить в таких случаях, что одна из сторон не является заимствующей; ведь маловероятно, чтобы переработка литературного памятника производилась на память, пока есть возможность проверки себя по подлиннику. При этом условии маловероятно, чтобы одинаковые слова и выражения заимствующей стороною создавались вновь и чтобы, таким образом, мы фактически имели перед собой не заимствование, а независимое повторение.
Не то совершенно при передаче устной: здесь мы почти никогда, а особенно когда дело касается давних времен, не можем установить непосредственный источник заимствования, и нам приходится допускать мысль о целой цепи, более или менее длинной, передатчиков. Обстоятельство это чрезвычайно осложняет дело, так как рассказ преломляется, таким образом, через целый ряд индивидуальных призм рассказчиков, из которых каждая дает свое преломление. Не говоря о том, что рассказчик обыкновенно чрезвычайно индивидуален вообще, ибо он в значительной мере творец, ему приходится еще полагаться на свою память, и при этом, конечно, очень часто выражения подлинника исчезают, поэтому при устной передаче нам приходится допустить в несравненно большей степени, чем по отношению к письменной передаче, возможность самостоятельного повторения тех же слов и выражений несколькими рассказчиками, особенно если они принадлежат одному времени и одной среде, обладают в значительной мере общими привычками и общими вкусами.
Необходимо тут же заметить, что часто, особенно для давнего времени, необыкновенно трудно установить, является ли путь передачи письменным или устным, причем здесь обыкновенно царит чрезвычайная неопределенность. Это имеет, конечно, особенное место по отношению к отдельным рассказам, так как большие сборники трудно, разумеется, заимствовать или передавать путем пересказа. Мы видели прошлый раз, что восточные большие сборники были заимствованы Западом путем письменных переводов-переделок.
При устной передаче большим затруднением является еще выяснение путей передачи, и тут особенно важно обращаться к помощи истории, которая одна может в этом случае дать нам надежное руководство. Конечно, когда речь идет о таком сложном явлении, как умственная деятельность человека, возможны всякие случайности, даже в высшей степени необыкновенные, но, как правило, следует все-таки держаться лишь наиболее вероятных, наиболее естественных возможностей, иначе наши предположения потеряют в значительной мере свою убедительность.
Как мы говорили в прошлый раз, именно в области литературы особенно нужны благоприятные обстоятельства, чтобы явилась потребность и возможность заимствования. Здесь особенно надо иметь в виду совокупность известных жизненных условий, создающих подходящую почву.
Рассмотрев возможные способы передачи, почву, время, в которых могла совершаться передача, мы переходим к подлежащим сравнению произведениям. Здесь мы прежде всего должны вдуматься в каждое произведение, в психологию и литературную технику его автора, для того чтобы представить себе, в чем могут заключаться элементы заимствования. При устной передаче эта часть нашей задачи особенно трудна, так как обыкновенно мы имеем дело с анонимами, т. е. с неизвестными авторами, и еще более обыкновенно - с автором, от которого мы имеем только данное произведение, вследствие чего наше понимание этого автора является чрезвычайно ограниченным, а потому и весьма субъективным, значит, и не очень для других убедительным: слишком уж в этом случае условны и непосредственны наши утверждения, раз мы соблюдаем необходимую научную осторожность.
Обстоятельство это, однако, не должно парализовать нашей работы, относительно которой мы с самого начала знали, что выводы ее в известной степени условны и что только с увеличением числа сравниваемых произведений мы становимся на более твердую почву. По отношению к разбираемому нами фабло мы находимся в довольно выгодном положении, так как знаем его автора, о котором к тому же можем судить и по другим его произведениям. Правда, сведения эти довольно скудны и отчасти противоречивы, но все же они достаточны, чтобы поставить его в определенное время и место: время - середина XIII в., место - центральные провинции Франции. Среда, к которой он принадлежит,- выражаясь нашим языком, культурные круги духовенства. Ему приписывается несколько небольших стихотворных произведений, которые, как и Lai d'Aristote, свидетельствуют о его литературном вкусе, а также и о любви порассуждать; несомненно, кроме lai ему, по-видимому, принадлежат "Битва семи искусств" и "Битва вин" (подвержено сомнению его авторство "Сказки о канцлере Филиппе"). Принадлежность его к духовенству может до известной степени послужить указанием на причину выбора сюжета из exempla, интерес к Аристотелю находит себе тоже косвенное объяснение в "Битве семи искусств", где псевдоаристотелевская философия того времени играет видную роль.
Предполагаемый нами источник фабло Жака де Витри гласит так:
"Аристотель убеждал Александра не быть так много со своею прекрасною женою. Александр его послушался. Тогда царица решила завлечь Аристотеля и стала ему показываться с распущенными волосами и обнаженными ногами. Он начал тогда приставать к ней. Царица потребовала, чтобы Аристотель сперва прокатил ее на своей спине, идя на четвереньках, как лошадь. Он согласился. Царица предупредила Александра. Тот увидел Аристотеля, везущего царицу, и хотел его убить. Аристотель, извиняясь, указал Александру, что царь может теперь убедиться в правоте его слов об опасности со стороны женщин для него, молодого человека, если так был проведен мудрейший старец Аристотель. Александр простил своему учителю". Ясно, что мы имеем перед собой только конспект рассказа, но конспект, весьма умело и полно составленный.
По отношению к этому возможному, а может быть, и вероятному источнику нашего фабло, "примеру" из проповедей Жака де Витри, мы тоже располагаем некоторым критическим материалом, который позволяет нам весьма ограничить степень гадательности наших предположений. "Пример", о котором идет речь, правда, не находится в известных нам рукописных сборниках, приписываемых Жаку де Витри, а не подлежит сомнению, что много "примеров" приписывалось и приписывается последнему не основательно, но по самому характеру сборников, составлявшихся для практической цели - быть материалом проповедей, нельзя ожидать, чтобы их составители очень точно проверяли свои источники: понятия литературной собственности и плагиата в понимании наших дней в те времена не существовали, и у знаменитого автора так же легко брали его добро, как и ему давали чужое. Поэтому в каждом отдельном случае надо делать проверку по соображениям, так сказать, внутреннего характера.
Ссылку на принадлежность нашего примера Жаку де Витри мы находим в известном и чрезвычайно популярном сборнике (...) базельского доминиканца Херольта, составленном в первой половине XV в. Херольт, по-видимому, действительно, как он это сам говорит, ограничился ролью ученика, добросовестно передавая слова учителей, и потому, может быть, мы вправе придавать некоторое значение его ссылке на Жака де Витри. Но большую вероятность авторства последнего мы считаем себя вправе почерпнуть из характера его как писателя. Читая его историю, письма и многочисленные "примеры", убеждаешься, что для него был особенно интересен жизненный рассказ, анекдот. Чрезвычайно ярко выступает эта черта в его истории, когда он дает биографию Магомета: из материала, которым он располагал, Жак де Витри, видимо, выбирает все анекдотическое - характер проповедника сказывается здесь,- он мыслит и общается с читателем не рассуждениями, а главным образом конкретными фактами, картинами из действительной жизни, как он ее себе представляет. Эта жалоба к жизни и ее проявлениям обоснована для него как христианина глубоким проникновением сознания, облеченного в слова: "Тайну цареву прилично хранить, а о делах божиих объявлять похвально" (Тов. XII.7).
Читая его историю и его письма, гораздо лучше понимаешь, почему он имел такой успех как проповедник, чем перебирая многочисленные конспекты его "примеров"; благодаря именно истории и письмам мы можем позволить себе облечь в плоть и кровь эти скелеты рассказов и поверить тому, что очаровательное фабло получило вдохновение от сухого "примера", который, конечно, не был таким в устах Жака де Витри или в устах даже других проповедников этого золотого века средневековой народной проповеди.
Мне кажется поэтому, что мы вправе сковать первое звено той цепи, которая должна привести нас с Запада на Восток: Анри д'Андели* взял сюжет Lai d'Aristote у Жака де Витри или у другого проповедника, взявшего его из того же источника, или же, наконец, у одного из слышавших проповедь, в которой для примера того, как женская хитрость может обмануть мудрейшего мужчину, вставлен был рассказ об Аристотеле.
* (Анри д'Андели (XIII в.) - автор "Лэ об Аристотеле".)
Клерк, талантливый литератор, внес, конечно, некоторые изменения в рассказ епископа; тонкими, чуть заметными чертами он внес в него солнце и цветы, и нравоучительный рассказ проповедника, тоже живой даже в своем виде конспекта, получил иное значение, сохраняя до мелочей отдельные моменты, мотивы рассказа, делающие несомненным связь фабло и lai.
Каким рассудочным холодом веет от слов, когда они говорят, что Александр был увлечен своею женою, ибо "она была прекрасна", а клерк, творец фабло, поет гимн любви, всеобъемлющей, всеобнимающей [Amors qui tout prent et embrace etc.]. Мы не можем, к сожалению, за недостатком времени провести полную параллель между обоими рассказами, которая бы показала, как велика между ними разница при несомненности их связи, посредственной или непосредственной. Но мы считаем все же необходимым указать на некоторые черты фабло чисто художественные, которые мы вновь найдем, когда обратимся к источникам Жака де Витри.
Проповедник, желающий, с одной стороны, по возможности остаться в пределах "закона", с другой,- как мы далее увидим, помнящий о своем оригинале, говорит о жене Александра, чем создает неловкость положения. Трудно представить себе царицу, которая взяла бы на себя роль одурачить столь легкомысленным приемом царского учителя. Правда, это почувствовал отчасти уже и проповедник, и потому он вынужден, чтобы спасти положение, внести трагическую ноту - Александр хочет убить Аристотеля за его дерзновенное отношение к царице. Автор фабло художественным чутьем понял невольную ошибку проповедника и сразу перенес рассказ в другую обстановку: у него речь идет не о царице, жене Александра, а о прекрасной девице, его подруге, и весь рассказ ведется уже в тонах легкой иронии, добродушного смеха, женского каприза; более глубокие ноты затронуты, только когда автор высказывает общие мысли о великой силе любви, причем он кончает словами: [...]. Мораль рассказа Анри д'Андели именно в том, что "любовь побеждает все и будет все побеждать, пока будут стоять века"; его совершенно не занимает, как мы это видели у Жака де Витри, женская хитрость, против которой надо предостерегать даже самых умных людей,- нравоучительный пример из проповеди сделался жизненною повестью.
Откуда же Жак де Витри мог взять сюжет своего фабло? Для ответа на этот вопрос нам нужно вернуться к писаниям знаменитого проповедника, которых мы уже коснулись раньше. В предисловии, к своей Lai d'Aristote он говорит: "...воодушевленный желанием узнать новое и мне неизвестное я нашел разные книги в шкафах латинян, греков и арабов; случайно в мои руки попали истории царей Востока, их битв и деяний. Эти интересные авторы, горделиво возвеличивая в своих пышных хвалах людей, о которых я говорил, и заботливо вверяя своим писаниям рассказы об их битвах, победах, богатствах, могуществе и прошлом величии, оставили потомству замечательные памятники". Мы нарочно сделали несколько более подробную выписку из предисловия Жака де Витри, потому что она как бы указывает на характер тех арабских сочинений, которые могли ему доставить материал для его трудов, особенно если мы вспомним указанную раньше любовь его к анекдоту, к конкретному описанию. Указание это тем ценнее для нас, что оно вполне приложимо к двум арабским сочинениям, в которых находятся рассказы, необыкновенно близкие как по своему сюжету, так и по отдельным мотивам к Lai d'Aristote. Это книги о хороших и дурных качествах, где имеется обилие рассказов, и, естественно, специально рассказов о царях, относятся они к IX, X, отчасти даже к XI в.; к этой же категории могут быть отнесены и арабские антологии. Такие сочинения должны были особенно привлекать Жака де Витри и подобных ему искателей описаний подвигов и деяний.
Арабские сочинения, которые мы имеем в виду,- "Книга добрых качеств и их противоположностей", приписываемая арабскому писателю IX в. Джахизу, и "Предел желаний относительно рассказов о персах и арабах", которая, по-видимому, может быть отнесена ко времени между серединою X и началом XI в.
Сочинения эти, особенно труды Джахиза, пользовались широкою популярностью и распространенностью, и несомненно, что они легко могли попасть в руки Жаку де Витри. Припомним, например, существование таких крупных библиотек даже у частных более знатных людей, как Усама, сирийский эмир, близко ко времени которого жил Жак де Витри; знание чужеземцем языка страны обыкновенно дает ему доступ к ее духовным сокровищам, и туземцы чтут того, кто не пожалел трудов, чтобы овладеть их языком; мы замечаем это теперь и на Западе, и на Востоке, и мы не имеем оснований полагать, что это было иначе в то время живейшего общения Европы и Азии, каким мы имеем право считать время крестовых походов. Чтобы не могло быть сомнений в чрезвычайной близости обоих арабских текстов к Lai d'Aristote Жака де Витри и к фабло, я прочту их переводы, в свое время любезно для меня сделанные моим учителем бароном В. Р. Розеном*.
* (Розен В. Р. (1849-1908) - выдающийся русский арабист, академик.)
"Мобедан* имел обыкновение, когда являлся к Кисре**, говорить ему: "Да живешь ты под благословением судьбы, да даруется тебе победа над врагами и да удержишься ты от подчинения женщинам". Слова эти сердили Сирин***, которая была прекраснейшей и умнейшей женщиною своего времени. И она сказала поэтому Кисре: "О царь, этот мобедан уже очень стар, и ты все-таки не можешь обойтись без его прозорливости и совета. И я думаю, что, зная, как ты в нем нуждаешься, я ему подарю рабыню мою М-с-дану (Секране)****, красоту и ум которой ты знаешь. И если ты полагаешь, что можешь просить его принять ее, то сделай это".
* (Мобедан, побед - главный жрец, старшее духовное лицо в сасанидском государстве.)
** (Сасанидский государь Хозрой Парвиз.)
*** (Любимая жена Хозроя Парвиза - Ширин.)
**** (Ленинградский список так, или Шекране и т п.)
Кисра поговорил с мобеданом об этом деле. Тот обрадовался рабыне, ибо хорошо знал ее красоту и превосходство, и сказал: "Принимаю ее, государь, ибо она (т. е. царица) отличает меня своею лучшею рабынею". Затем Сирин сказала Секране: "Желаю, чтобы отправилась ты к этому старцу (по-арабски - шейху). Когда же он станет приставать, то отказывайся, пока не оседлаешь его и не проедешь на нем верхом. Тогда дай мне знать о времени, когда ты сможешь с ним это проделать, дабы он с того времени при приветствовании царя не мог уже говорить: "Да будешь ты охранен от подчинения женщинам". Тогда та ответила: "Я это сделаю, государыня".
Затем она отправилась к старику и переселилась в то помещение в царском дворце, где он жил. И начала она прислуживать ему и оказывать ему всяческое почтение и всяческую честь. Он начал приставать к ней, а она сказала: "О Кеди, не раньше уступлю твоим просьбам, чем оседлаю тебя и проедусь на тебе верхом. Если ты согласишься на это, то я охотно подчинюсь тебе". Он отказывался несколько дней, и она продолжала показываться ему во всей красе своей, пока наконец он не сказал ей: "Делай, что хочешь".
Тогда она заказала для него маленькое седло и маленькую попону, подпругу и подхвостник. Затем она велела ему стать на четвереньки, положила ему на спину попону и седло, протянула подхвостник, встала, села на него верхом, говоря: "Хар, хар"*. Потом послала к госпоже своей Сирин и сообщила ей о происшедшем.
* (Или "хир, хир" или "хур, хур".)
И Сирин сказала затем царю: "Поднимемся на крышу дома мобедана и посмотрим в окошко, что происходит между ним и его рабыней". И поднялись оба и увидели, что рабыня едет на нем, сидя на седле. Тут царь воскликнул: "Горе тебе, что это значит?" Мобедан поднял голову, взглянул на окно, посмотрел на царя и сказал: "Вот это и есть именно то, что я разумел, когда предостерегал тебя от подчинения женщинам". Засмеялся на это Кисра и оказал: "Да поразит тебя Господь, какой же ты шейх! И да поразит Господь того, кто после этого спросит еще у тебя совета". И Бог знает лучше всего".
Ближайшая версия находится во втором арабском сочинении:
"...потом Кисра установил управление государством и правильное течение дел. И выбрал он из рода мобеданов одного из умных и твердых в вере мужей и сделал его своим мобеданом, т. е. верховным судьей и советником. Этот мобедан был человек старый. Он стал управлять мобеданством, и Кисра находил в нем совершенное, основательное понимание дел, поэтому вверил ему управление и преимущественно к нему обращался за советами. Мобедан же советовал ему только правильное и полезное. Он первый стал допускаться к Кисре без доклада и разрешения. Когда он входил к царю, он ему говорил прежде всего: "Да продлится жизнь твоя в блаженстве славы, да будет дарована тебе победа над врагами, да будет дана тебе радость и да будешь ты спасен от послушания женщинам"; затем уже ему приказывали садиться. Это (т. е. слова мобедана) рассердило Ширину, жену Кисры, которая была одной из красивейших, умнейших и рассудительнейших женщин своего времени, и она раз оказала Кисре: "О царь! Этот мобедан стал очень старым и слабым, а ты не можешь обходиться без его мнений и добрых советов. Между тем старцам возвращают юность только женщины своею лаской и своею нежностью. И вот, видя, как ты нуждаешься в мобедане, я решила подарить ему свою рабыню Мушкдану, ибо ты сам знаешь, о царь, как она умна, как красива и как приятна беседа с нею. Если поэтому ты признаешь за благо просить принять ее от меня, то сделай это".
И поговорил Кисра со своим мобеданом об этом, и польстился мобедан на девушку, так как сам знал ее красоту и видел проявления ее ума, и сказал: "О царь! Я принимаю от Ширины ее милость и (ценю) то, что она мне оказывает предпочтение, даря мне наиболее красивую и дорогую ей невольницу". Тогда Ширина сказала Мушкдане: "Я хочу, чтобы ты пошла к этому старцу, обласкала его своими прелестями и услужила ему, как следует. А когда он польстится на тебя, то не поддавайся, пока ты не наденешь на него седло и не сядешь на него верхом. И тогда уж он не станет более прибавлять к своему приветствию царю этих слов: "Да будешь ты охранен от послушания женщинам". Мушкдана сказала ей: "Я сделаю так, государыня, и дам тебе знать время, когда я с ним это сделаю". Затем невольница пошла к старцу-мобедану и осталась с ним в том помещении царского дворца, в котором он жил, и начала беседовать с ним, и ласкать его, и оказывать ему всякое внимание. И любовался ею мобедан, и полюбил ее, и раскрылось сердце его. И когда он стал настойчиво добиваться ее благосклонности, она ему сказала: "О судья, я не соглашусь, пока не возложу на тебя седло. Если ты на это согласен, я буду к твоим услугам". Несколько дней он не соглашался, а она продолжала его ласкать и прихорашивалась для него. Тогда он сказал ей: "Делай, что хочешь, но потом исполни мое желание".
И приготовила она для него маленький потник и маленькое седло, подпругу и подхвостник, приказала ему стать на четвереньки, положила на его спину потник и седло, произнося при этом такие слова, которые говорят ослам. Затем она затянула подпругу и протянула подхвостник. Предварительно же она послала к Ширине извещение. Тогда Ширина сказала Кисре: "О царь, пойдем вместе на крышу помещения мобедана и посмотрим в окно на то, что происходит между ним и невольницею". И поднялись они и посмотрели, и вот невольница сидит на нем верхом на седле! Тогда Кисра крикнул ему: "Что это такое?" А тот ответил: "Это и есть то самое, о чем я говорил, когда предостерегал от послушания женщинам". Этим ответом он рассмешил Кисру, но впредь, когда приветствовал царя, уже не прибавлял к приветствию слов: "И да будешь ты охранен от послушания женщинам""*.
* (В обеих арабских версиях мы смягчили несколько чересчур грубых выражений, не касаясь, разумеется, смысла.)
Перед нами два рассказа, почти тождественных, несомненно восходящих к общему оригиналу, причем второй рассказ точнее передает, очевидно, этот оригинал, по крайней мере его рукописное предание лучше, так как некоторые фразы точнее и лучше переданы. Мы имеем перед собой законченное литературное произведение - рассказ на тему о женской хитрости, одной из любимейших восточных тем; таким образом, Жаку де Витри с его предостерегающей против женского коварства проповедью был вполне подготовлен сюжет. Несмотря на то что один из рассказов приписывается хорошо известному автору и вставлен в целый сборник, так же как и другой рассказ вставлен в сборник, мы имеем, по существу, дело с анонимом, общим их оригиналом. Правда, есть возможность предполагать, что этот непосредственный оригинал тоже арабский и принадлежит определенному автору IX в. ал-Кисрави, составившему книгу о персидских царях, но даже если и так, то мы не знаем, принадлежит ли та форма рассказа, которую мы имеем, ал-Кисрави или его оригиналу, который был, несомненно, персидским. Мы знаем определенно, что в первые века ислама, после падения персидской династии Сасанидов, когда еще жив был зороастризм, его литература и наука, персидское литературное предание имели большое влияние на арабскую литературу, что создалась крупная переводная литература с персидского на арабский. К этому кругу относятся и оба наши рассказа; за это говорят и арабское предание и форма их, и действующие лица и имена, так, например, имя рабыни Мушкдана ("Мускусное зернышко") - персидское. Кроме того, мы имеем еще указание из арабского библиографического труда X в., что существовала персидская "Книга о философе, испытанном невольницей".
Нам приходится поэтому считаться с анонимным персидским автором, если не считать, что та форма, которую мы имеем, принадлежит ал-Кисрави, литературная манера которого нам несколько известна. Относительно этого автора нам известно, что он обладает склонностью к индийским сюжетам рассказов и передавал их сравнительно точно и близко к подлиннику. Для большей верности будем, однако, считать, что мы имеем дело с анонимным персидским автором.
Нам сразу ясно, в чем состоят главные перемены, произведенные Жаком де Витри и которые истекают из разности литературных манер. Прежде всего, дело коснулось действующих лиц; на место чуждого нам персидского царя и его соратника проповедник поставил хорошо известную по историческому роману фигуру Александра и его не менее известного учителя. Отпала чуждая фигура невольницы, ее место заняла (неудачно, как мы видели) царица. Отпала еще одна небольшая черта, значение которой не сознавали уже арабские передатчики, а именно вступительное восклицание мобедана о женщинах, связанное, как мы потом увидим, с построением рассказа в целом цикле рассказов; в арабском тексте оно скомпоновано независимо, хотя, в сущности, как мы покажем далее, является неосознанным пережитком оригинала.
Если мы, отбросив эти незначительные переделки, попытались бы дать рассказ по конспекту Жака де Витри, то он оказался бы поразительно близким к его арабскому оригиналу. О драматической черте, возникшей вследствие изменения роли царицы, мы сказали раньше.
Мы могли бы теперь перейти к отысканию оригинала персидского рассказа, являющегося оригиналом приведенного нами арабского, если бы нам не надо было, с одной стороны, остановиться еще на одном европейском рассказе, а с другой - показать популярность нашего рассказа в мусульманской среде.
Европейский рассказ (немецкий), тоже XIII в., немногим, по-видимому, более молодой, чем фабло, и который может равно восходить и к фабло, и к Жаку де Витри, хотя в нем есть и некоторые черты, которые как будто ставят его в непосредственную связь с восточным оригиналом. Вот этот рассказ.
"Греческий царь Филипп поручил воспитание сына мудрому Аристотелю и отвел им отдельный дом и сад. Александр отлично учился, как вдруг вмешалась любовь. У царицы была девушка по имени Филлис. Полюбили друг друга Александр и Филлис. Но Аристотель пожаловался царю, и любящих разделили. Филлис решила отомстить старому учителю. Разоделась и босиком пошла в сад. Из окна ее увидел Аристотель и был увлечен ее прелестью. Она подошла к окну, бросила старику цветы и завязала с ним разговор. Старик начал приставать к ней, но она не соглашалась уступить ему. Наконец она потребовала, чтобы он дал себя оседлать и взнуздать. Он согласился, и она поехала на нем в сад. Их увидели царица и все прислужницы. И весь двор скоро узнал об этом. Пристыженный Аристотель покинул двор, удалился на остров и там составил книгу о хитростях и кознях женщин".
Как видно, здесь введен царь Филипп, есть царица (но не жена, а мать Александра) и соответственно, как и в фабло, главная героиня - девица, но уже с определенным именем - Филлис. Упоминание в конце о том, что Аристотель пишет книгу о женских кознях, как будто является отзвуком из "Книги о семи мудрецах". Все остальное совпадает. Материал, которым мы располагаем, мне кажется, недостаточен для того, чтобы выяснить определенно историю немецкого рассказа и его отношения к фабло. Дело осложняется еще тем, что в другой немецкой поэме, написанной около 1300 г., встречается загадочный стих, явно относящийся к нашему рассказу, но дающий непонятное имя: говорится, что прекрасная Силарин едет на Аристотеле. Приходится признать, что здесь мы стоим перед вопросом, на который у нас пока нет ответа. Во всяком случае, общая схема нашего рассуждения, мне кажется, этим обстоятельством не нарушается, так как немецкий рассказ слишком близок почти во всех деталях к фабло, чтобы было вероятно отсутствие связи с фабло и его оригиналом.
Для полноты обозрения восточных рассказов, показывающих популярность нашего сюжета на Востоке, достаточно указать еще на турецкую версию XVII в. и на современный кабильский рассказ из цикла рассказов о шутнике Джуха*, который (цикл) восходит по крайней мере до X в., и современный татарский рассказ в Сибири, довольно, однако, уже своеобразный. Мы оставляем в стороне эти версии, так же как и многочисленные позднейшие европейские, так как не преследуем цель дать историю данного сюжета в мировой литературе, а, как мы уже сказали, стремимся лишь обосновать на определенном примере мысль о заимствовании ряда фабло с Востока.
* (Джу ха - популярный в арабо-мусульманском мире комический фольклорный'персонаж, родственный Ходже Насреддину.)
Мы довели наш рассказ из Европы через арабов в Персию, в среду, которая во время Сасанидов (III-VII вв.) успешно заимствовала индийские литературные памятники. Таким образом, мы и по отношению к нашему рассказу имеем основание предполагать индийский источник. Но здесь вопрос уже становится гораздо сложнее, так как мы не имеем отдельного индийского рассказа, который хронологически определялся бы как более древний, чем персидский. Правда, в очень старом индийском сборнике "Панчатантры", легшем в основу знаменитого сборника "Калила и Димна", который, как мы говорили, распространился по всей средневековой Европе, в некоторых рукописях встречается рассказ, входящий в редакцию, датированную концом XII в. Рассказ этот о царе Нанде и его советнике Вараручи* и их женах. Вот его полный пересказ.
* (Широко популярный в фольклоре народов Индии сюжет, очевидно впервые изложенный в сказочном эпосе "Брихаткатха" поэта Гунадхьи (III-IV вв.), затем повторенный в "Брихаткатхаманджари" Кшемендры (XI в.) и в "Катхасаритсагаре" Сомадевы (XI в.).)
"Советник царя Нанды, знаменитый ученый Вараручи поссорился с женой, которую он страстно любил; он всячески старался умилостивить ее, но бесполезно. Наконец она сказала ему: "Я смилостивлюсь, если ты обреешь голову и поклонишься мне до земли". Когда Вараручи исполнил ее желание, она успокоилась. Жена Нанды тоже рассердилась на своего мужа и ни за что не хотела смилостивиться, царь стал ее упрашивать, но она не соглашалась на примирение. После долгих просьб она сказала: "Если ты дашь себя взнуздать и оседлать так, чтобы я могла проехаться на тебе, и ты при этом станешь ржать, я помирюсь с тобой". Царь исполнил прихоть жены. На следующий день Вараручи явился на царский совет бритым, царь спросил его, отчего он не вовремя обрился. Вараручи ответил: "По просьбе женщины не надо ничего ни делать, ни давать, а то заржет, кто не конь, и не вовремя обреешь себе голову"".
Несмотря на то что он носит теперь характер конспекта рассказа, нет сомнения не только в том, что он когда-то был рассказан в пространной форме, но и в том, что он составлял часть цикла рассказов о знаменитом индийском царе Нанде и о его не менее знаменитом советнике Вараручи, следы которого в виде отдельных рассказов разбросаны по многим и весьма старым памятникам индийской литературы. Для нашего исследования, однако, этот рассказ имеет значение только в связи с другою индийскою версиею, как показатель того, что наш рассказ был популярен в Индии и пересказывался разным образом, причем нам пока невозможно определить, который из индийских рассказов проник в интересовавшиеся индийской литературой персидские круги и таким образом стал, в свою очередь, оригиналом западного lai, а потом и фабло.
Второй индийский рассказ тоже входит в цикл рассказов, но уже о другом царе, Гневном Прадьота, царе Уджаина в Индии и буддийском учителе Махакатьяяне. Рассказ этот значительно старше рассказа Панчатантры, и мы не ошибемся, вероятно, если отнесем его ко времени никак не позже V-VI вв. н. э., а вернее, гораздо более раннему. Непосредственное отношение к нашей теме имеет только небольшая часть этого цикла, но и та, как мы сейчас увидим, в значительной степени отличается от всех предыдущих версий - европейских и восточных. Для того чтобы этим обстоятельством не смущаться при сравнении, мы должны иметь в виду, что построение рассказа в среде целого цикла, где он является эпизодом, тесно связанным с общим ходом гораздо более сложного сочетания не только мотивов, но уже и целых сюжетов, совершенно иное, чем просто отдельного рассказа. Надо поэтому тщательно разбираться в том, что изменено в целях стройности целого и не учитывать этих изменений, как стороннего элемента. После этого вступления я могу безопасно пересказать индийский рассказ, в котором я затем обращу ваше внимание на общее и на различное с основными элементами фабло, с которыми я сближаю наш рассказ.
"Царь Чанда-Прадьота посылает в поход против горцев Пандава своего главного советника Бхарату. Бхарата победоносно возвращается из похода и привозит с собой заложников и заложниц. Среди них была девушка, тело которой было все покрыто болячками. Царь, отличавшийся крайней женолюби- востью, увидел ее и спросил Бхарату: "Неужели найдется человек, который захочет иметь сношения с такою девушкою?" Бхарата ответил: "О царь, не только будут иметь с нею сношения, но она сможет заставить человека дать себя оседлать ею и ржать". Царь усумнился в справедливости этих слов, и Бхарата обещал на деле доказать, что он прав.
Он велел врачам вылечить девушку. Врачи стали пользовать ее, и она вскоре совсем оправилась и стала красавицей. Тогда Бхарата взял ее к себе в дом, дал ей имя Тара и держал ее как дочь свою. По прошествии некоторого времени Бхарата сказал своей приемной дочери: "Я позову к себе царя на обед, ты приоденься и покажись ему". Тара ничего не ответила. Затем он пригласил царя к себе, и, когда они после обеда беседовали, из соседней комнаты, отделенной только занавескою, Тара кинула в столовую мяч и, выглянув из-за занавески, сказала Бхарате: "Отец, отдай мне мяч". Царь, увлеченный красотою девушки, опросил, кто она. Бхарата сказал, что она его дочь, и, уступая настояниям, согласился выдать ее за него замуж. Женолюбивый царь был безумно влюблен в нее и отдавал ей предпочтение перед всеми женщинами своего терема.
Тогда Бхарата, видя, что настало время доказать царю правду своих слов, сказал Таре: "Сможешь ты заставить царя дать себя оседлать тобою и заставить его ржать при этом?" Она немного улыбнулась и ответила: "Посмотрю, смогу или нет**. Затем Тара приняла печальный вид, надела загрязненное платье и легла. Царь увидел ее и спросил: "Царица, какой ты дала себе обет?" - "О царь,- ответила она,- боги смущены".- "А что тебе до богов?" - "О царь, когда ты послал отца моего в поход, я дала обет, что, если он победит, я заставлю того, за кого выйду замуж, прокатить меня на себе и ржать. Теперь я стала твоею женою - в тереме твоем много жен и нет мне надежды на исполнение моего обета". Царь сказал: "Не беспокойся, обет ты дала ради меня, все будет исполнено". Но Тара молчала. Царь прибавил: "Нет ли у тебя еще желания?" - "Нет, государь, ничего больше не хочу, но пусть присутствует царский жрец (пурохита) и произнесет благословение и пусть кто-нибудь при этом играет на лютне". Музыканта пришлось искать, наконец нашли одного гандхарца, которого разорили и довели до крайности блудницы. Его привели во дворец, завязали ему глаза и повели на крышу. Сюда же приведен был и царский жрец, которому царь рассказал все как было; жрец ничего на это не сказал. Тара села на царя, произнеся молитву и надев белую одежду, и царь тогда заржал после благословения жреца, гандхарец играл на лютне.
Слыша ржание коня, гандхарец подумал: "Откуда это взялась лошадь на крыше? Это, верно, кто-нибудь, как и я, попавший во власть женщин". И он запел песенку, намекавшую на происходившее. Поговорив с ним, царь понял, что гандхарец догадывается об истине: он велел ему покинуть страну, наградив его щедро деньгами.
Царь удалил таким образом одного свидетеля, но другой, домашний жрец, сказал ему однажды: "О царь, нехорошо ты поступил; не подобает царю до такой степени подчиняться женщине". Царь на это промолчал, но вскоре он сказал Бхарате: "Вот что мне сказал домашний жрец, не можешь ли ты устроить, чтобы собственная жена заставила его обрить голову". Бхарата обещал и обратился за содействием к своей жене; она сблизилась с женою жреца и стала ей выхвалять уступчивость своего мужа. Ту это задело за живое, и она сказала: "Дорогая, а ты разве думаешь, что у меня власти над мужем нет? Что ты хочешь, чтобы муж мой сделал по моему желанию?" Жена Бхараты сказала: "Если ты хочешь, чтобы я тебе поверила, заставь его обрить голову".- "Увидишь, что я заставлю его обрить голову",-сказал жена жреца. Она притворилась огорченной и одела грязное платье. Муж ее удивился и спросил: что это значит? Она объяснила ему, что дала обет: "Если царь возьмет тебя к себе в милость, то я обрею тебе голову и волосы твои принесу в дар богам. Я забыла об обете своем, и боги гневаются". Жрец поспешил обещать исполнение обета и только взял у царя шестимесячный отпуск. Обо всем происшедшем Бхарата уведомил царя. Когда жрец обрил себе голову, жена его послала сказать об этом жене Бхараты, та сообщила мужу, а он сказал царю. Тогда царь внезапно позвал к себе жреца, и он должен был явиться ко двору. Бхарата между тем обучил двух мальчиков песенке: "Где есть жена, прекрасная, родовитая, краса дома, там ржет и кто не конь, и там жрец ходит с бритою головою". Жрец надел шапку и поспешил к царю. Когда он вошел, мальчики запели песенку, и один из них снял с жреца шапку и воскликнул: "Взгляните на жреца с бритою головою". Все засмеялись, и жрец ушел пристыженный домой".
Только что переданный рассказ входит в цикл рассказов об индийском царе; таких циклов мы в индийской литературе знаем целый ряд, так же как и в других литературах, восточных и западных; около крупных или в том или в другом отношении любопытных исторических личностей, особенно правителей, всегда создавались циклы [легенд], частью несомненно основанных на действительности, и, что необходимо отметить, легенды одного цикла часто с соответствующими времени и месту изменениями приурочиваются к другому циклу. Это понятно: воображение поражается исключительной личностью и хочет ее выделить, но при общей ограниченности человеческого воображения черпает из готового материала, внося лишь те или другие специфические черты. В рассматриваемом нами случае мы имеем между прочими рассказами данного цикла ряд придворных сцен. В центре женолюбивый царь, около него разыгрываются придворные интриги. Основным рассказом является наиболее яркий, вызывающий наибольшие насмешки случай именно с царем: он главная фигура, к нему же применяется и наиболее необыкновенное, оттого случай с мужчиной, дающим себя оседлать женщине, применен к царю.
Что мотив этот существовал как составная часть другого повествовательного сюжета, мы знаем из другого старого буддийского рассказа с совершенно другим характером, где жена брахмана заставляет мужа при совершенно иной обстановке надеть на себя конскую сбрую. Данный рассказ чрезвычайно естественно развивается: были три свидетеля слабости царя, и всем трем, естественно, надо за это отомстить, что и происходит. Наличность трех лиц понятна вполне в цикле рассказов, где эти лица появляются и в других комбинациях и где данный рассказ лишь эпизод. Эпизод, однако, настолько характерный, что легко мог стать предметом самостоятельного рассказа, что, как мы видим, и случилось. Произошло ли это уже на индийской почве, мы не знаем, так как такой рассказ пока не найден. Спешу, впрочем, прибавить, что индийская повествовательная литература очень мало пока исследована. Но мы находим его в той персидской сасанидской среде, которая, как мы указали, широко заимствовала из литературы индийской. Здесь мы наш рассказ видим приуроченным к двум историческим личностям, которые именно вместе оставили в литературе глубокий след: персидская литература посвятила немало прекрасных страниц и стихов двум знаменитым любовникам - Хосрою и его прекрасной супруге Ширин. Это приурочение, совершившееся, очевидно, уже на персидской почве, сразу ставило автора в невозможность придать сатирический оттенок любви царя, и, таким образом, естественно, совершилась подмена царя личностью его советника, которая сохранилась и далее, при переходе рассказа далее на Запад. Точно так же и царица Ширин, ставшая, по-видимому, с самого начала определенным положительным типом, не могла унизиться до того, чтобы лично соблазнять мобедана, для этого, естественно, в рассказ введена прислужница, одна из обычных фигур повести.
Все эти перемены, вполне естественные, выдвинулись лишь перенесением рассказа в другую обстановку и выделением отдельного рассказа из целого цикла, и потому мы имеем право считать несомненным заимствование персидского рассказа или из указанного индийского или аналогичного с ним неизвестного. Этим замыкается последнее звено цепи, так как у нас нет никаких оснований искать в какой-либо другой литературе источник индийского рассказа. Что отдельные мотивы этого рассказа и даже главный из них - оседлание женщиною мужчины - могли существовать в Индии самостоятельно и не только в Индии, а и в других странах, не подлежит сомнению. Но это вопрос, который нас совершенно не касается и который совершенно независим от вопроса о заимствовании средневековым Западом известных повествовательных сюжетов с Востока. Вопрос о том, где впервые появился этот мотив о мужчине, оседланном для прихоти женщины, вопрос о началах того, что французы называют [...],- вопрос исключительной сложности и трудности, для решения которого ни в одной области мы пока не обладаем ни достаточными знаниями, материалами, ни, главное, надежными методами исследования. Мы видим, что в вопросе о прародине арийцев, о так называемом праязыке, о первоначальных формах человеческого общежития, так же как и в соответствующих областях естествознания, решения представляются нам теперь гораздо более сложными, чем нашим предшественникам: то, что на расстоянии кажется однотонным пятном, при приближении разлагается на ряд контуров, деталей и красок, на сочетания сложные и часто трудно воспринимаемые и понимаемые.
Мы должны себе сказать, что есть вещи, которых мы пока не знаем и знать не можем, ибо не обладаем пока необходимым для этого умением расчленять и понимать тот сложный материал, в котором мы даже разбираемся с трудом. Я напираю на слова "пока", так как если сравнить методы работы сто лет тому назад и теперь, то ясно, какие шаги вперед мы сделали; через сто лет о нас скажут в значительной мере то же, что мы говорим о своих предшественниках.
Мне кажется, что вы должны убедиться в том, что есть большая степень вероятия, что наш рассказ вышел из Индии, проник вместе с другими индийскими рассказами в Персию, отсюда перешел к арабам, в среду, черпавшую в широкой мере свои знания из персидских источников, от арабов к Жаку де Витри, читавшему арабские книги, жившему на Востоке и любившему повести, вдохновлявшие его проповеди, а от него к слушавшим или читавшим его "литераторам" его дней, из которых один, Анри д'Андели, дал нам свое очаровательное фабло.
Конечно, эта последовательность переходов в высокой мере вероятна, и в высокой мере невероятно, чтобы повести западные и восточные на нашу тему возникли независимо одна от другой; еще менее вероятно, чтобы восточные повести были заимствованы с Запада, но, конечно, не исключены вполне вторая и третья возможности. Только если мы остановимся на них, нам, в сущности, надо сделать то, что сделал Аристотель в фабло,- закрыть книгу, ибо дальнейшая работа невозможна; мы оказались бы тогда в области безграничного, а потому и бесплодного скептицизма; всякие дальнейшие попытки были бы уже совершенно бесполезны - там, где возможно все, в сущности, ничего не возможно. Между тем ясно, что практически есть степень невероятности, которая жизненно равна невозможности. И поэтому если мы по тщательной проверке находим ряд примеров большей вероятности, то мы имеем (право считать, что доказали то, чему мы приводили эти примеры. В занимающем нас случае это примеры того, что фабло известного типа - восточного происхождения. Первым примером Lai d'Aristote я и кончаю сегодня, чтобы следующий раз перейти к фабло Aubere.

© India-History.ru, 2013-2018
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://india-history.ru/ "История и культура Индии"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://india-history.ru/ "История и культура Индии"